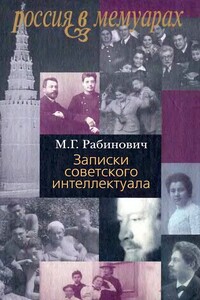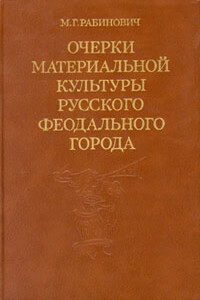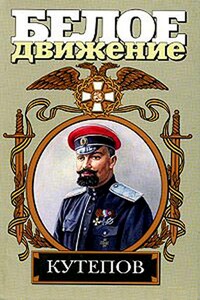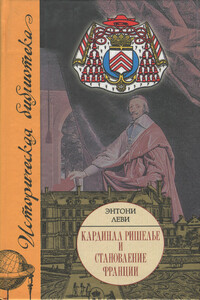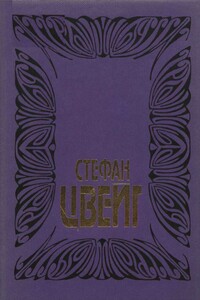Интересно, что до нас дошло известие о том, какую роль играл этот меч в сражениях.
В 1278 году меченосцы во главе с самим магистром ордена вторглись в русские земли и осадили Псков. Положение было тяжелое. Но псковичи во главе с приглашенным еще лет за десять до того в князья Довмонтом упорно и смело оборонялись. Князь Довмонт происходил из литовского княжеского рода. Но еще в молодые сравнительно годы он из-за семейных неурядиц вынужден был покинуть Литву и через некоторое время стал псковским князем. С тех пор он верно служил русской земле, даже крестился и принял русское имя Тимофей. Не раз водил Довмонт в бой псковские полки. Незадолго до событий, о которых мы говорим сейчас, он участвовал во главе псковичей в знаменитом сражении при Раковоре, когда новгородцы и псковичи наголову разбили немцев.
И теперь псковичи задумали решающую вылазку, чтобы отбросить противника от стен Пскова. Тогда в псковском Троицком соборе произошла торжественная церемония. При большом стечении народа князь Довмонт вошел в собор и положил свой меч на алтарь. И целая процессия служителей церкви во главе с игуменом торжественно проследовала к алтарю. Игумен Сидор взял меч и опоясал князя этим мечом. Церемония эта была настолько важна, что попала даже в новгородскую летопись. Наверное, она была нужна, чтобы поднять дух воинов, выступавших против врага. Князю-воеводе торжественно вручали меч как символ доверия государства и залог победы.

Немцы были с огромным уроном изгнаны из Псковской земли. И в этих сражениях Довмонт участвовал не только как военачальник. Один летописец записал, что он «самого немецкого гроссмейстера ранил по лицу мечем своим». В жарком бою сталкивались не только простые воины, но и воеводы. Возможно, что еще не был забыт древний обычай поединка военачальников. Об этом обычае мы знаем также из рассказов летописцев.
Поединки богатырей перед общим сражением бывали и позднее. Так, в 1380 году на поле Куликовом с вражеским удальцом бился русский воин Пересвет.
Нет ничего удивительного в том, что и Довмонт схватился на поле боя с самим гроссмейстером меченосцев.
Довмонт пользовался большой популярностью в Пскове до конца своих дней. Меч его как символ победы помещали, как было сказано, даже на псковских монетах. При этом чеканщики монет изображали не вообще какой-то меч, а именно тот меч Довмонта, который и до сих пор хранится в Псковском музее.
Судьба этой вещи богата событиями. Рукоять меча, видимо, знала когда-то другой клинок, а клинок – другую рукоять. Клинок, сделанный в городе Пассау на Дунае, проделал путь через всю Европу в Ливонию, чтобы быть сломанным в битве на реке Великой под городом Псковом и переменить не только рукоять но и владельца. Лишь тогда меч получил тот вид, который он имеет и сейчас. В таком виде он пережил свои лучшие времена. Торжественно вручили его князю псковичи, не раз сверкал он на полях сражений (и даже нанес удар самому гроссмейстеру ордена меченосцев), прежде чем найти покои в ризнице Троицкого собора, а затем – в Псковском музее.
Наконец, не всякая вещь может похвастаться тем, что с нее делали изображения на деньгах.
Эта вещь исчезла.
Пропала из музея во время второй мировой войны. Сохранились только цветные рисунки и негативы снятых с нее много лет назад фотографий, по которым мы и можем судить о замечательной работе древнего мастера.
Более восьмисот лет тому назад он сделал довольно большой «напрестольный» крест. Вместе с роскошно украшенным евангелием такой крест лежал на священном покрывале престола в алтаре церкви; все тогда верили в его чудодейственную силу.
Когда этот сверкающий золотом и драгоценными каменьями крест выносили из алтаря и молящиеся подходили прикладываться к нему, им казалось, наверное, что он целиком золотой. На самом деле это было не так. Основа креста была деревянной (всего вернее – кипарисовой), но ее покрывали десятки золотых пластин. На пластинах цветными эмалями, которыми так славилась Древняя Русь – красной, синей, зеленой, голубой, – изобразили различных «святых». Их миниатюрные лики, возле которых были еще более мелкие надписи, чередовались с изящными узорами. В особых ячейках креста помещались мощи трех «святых». Контур его окаймлял жемчуг; другие крупные драгоценные камни сверкали на поверхности креста.