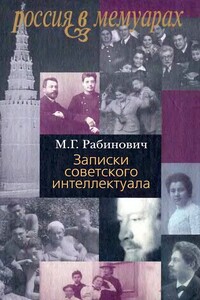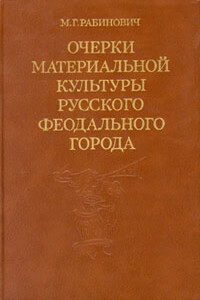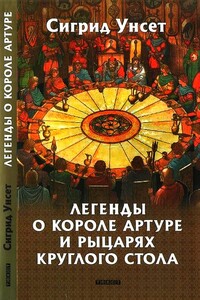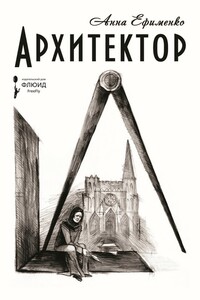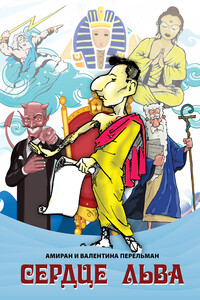ФУIIМЛААССРРЛКССТСГВВВМЛРРМЛААСС,
а дальше маленький крестик и еще какие-то знаки.
Прочитай, кто может!
По смыслу всего текста тут должна быть подпись резчика (или резчиков). Ведь перед этой абракадаброй стоит знакомая уже нам традиционная фраза, призывающая бога помочь мастеру, сделавшему данную вещь. Вероятно, резчик и поставил свою подпись, но сделал это так, что разобрать ее мог только посвященный в его тайну.
Что же заставило мастера скрывать свое имя? Ведь произведение, казалось бы, достойно было всяческой похвалы – и работа прекрасная, и сюжет «душеспасительный».
Попробуем еще раз прочесть надпись. Сразу встанет вопрос: а кто такие «людгощичи», которые «поставили сей крест»? В Новгороде была в древности улица, называвшаяся Людогощей. Вероятно, людгощичи, или людогощичи, – это жители Людогощей улицы. Вспомним, что в Новгороде было и свое самоуправление. Город в то время, о котором мы сейчас говорим, Делился на пять районов – «концов»; всякий конец имел свое вече, своего старосту. Концы делились каждый на две «сотни» – их всего было десять, потому новгородское войско называли иногда «тысячей». Сотни состояли из улиц. Таким образом, «уличане» – жители одной улицы – были не просто соседями, но и объединялись в своеобразную организацию.
Но ведь на одной улице жили в городах того времени обычно люди, связанные и общим делом. Например, ремесленники одной профессии. В Новгороде была Щитная улица, где жили мастера-оружейники, изготовлявшие щиты. А специалисты по окраске тканей – красильники – жили на Красильницкой улице. Позднее в Москве были такие переулки, как Плотников, Колпачный, Серебряный и т. п. Эти названия сохранились до сих пор, но не всегда мы помним, что когда-то они имели вполне реальный смысл. И человек, хотевший заказать себе головной убор, в те времена смело отправлялся в Колпачный переулок, а тот, кому требовалось серебряное украшение, шел в Серебряный. Они, если даже не знали лично подходящего мастера, могли быть уверены, что на соответствующей улице такой найдется. Так было и в других городах Древней Руси, Западной Европы и Востока.

Красильницкая, Щитная и другие подобные улицы, конечно, были заселены простонародьем. Целые концы Новгорода получали названия по ремесленникам, видимо игравшим в них значительную роль, – Гончарский, Плотницкий. Но были и аристократические районы города, где жили знатные бояре и богатые купцы. Такой была, например, Прусская улица, где стояли дома многих бояр.
Улицы, значит, могли быть организациями богатых и бедных, интересы их были различные и зачастую сталкивались.
Итак, людгощичи, видимо, решили по какому-то случаю соорудить роскошный крест и заказали его мастеру-резчику. Но это все же не объясняет нам, почему резчик не решился подписать свою работу полным именем, а назвал только своих заказчиков – людгощичей – и то не по именам.
Ответ на этот вопрос все же находится в самом тексте посвятительной надписи. Дело в том, что людгощичи призывают милость на всех, кто молится верою, чистым сердцем на всяком месте.
На всяком месте! Значит, не обязательно в церкви. Вот тут-то и была крамола.
Известно, что господство церкви – все равно, католической, православной или магометанской – всегда тяжелым бременем ложилось на народные массы. Ведь церковь была сильнейшим союзником феодалов и сама выжимала из народа все соки. Однако бороться против церкви в те далекие времена можно было, только оспаривая те или иные положения церковников, а не религию вообще. Безбожники-атеисты появились лишь гораздо позже. А пока всякий протест народа против своих угнетателей выливался обычно в отказ от каких-то частей церковной обрядности. На Западе, например, одним из основных требований протестантов было вести церковную службу не на непонятном латинском языке, как это делала римско-католическая церковь, а на родном языке народа (например, французском или немецком).
Эти народные движения протеста не имели ничего общего с позднейшими реакционными сектами. В них не было ни сектантской замкнутости, ни изуверства, ни стремления увести верующих от действительной жизни, запутать их в сетях религиозных споров.