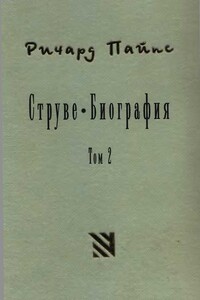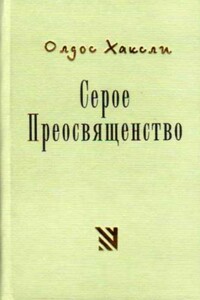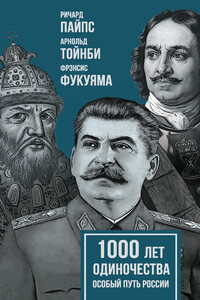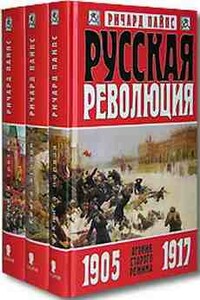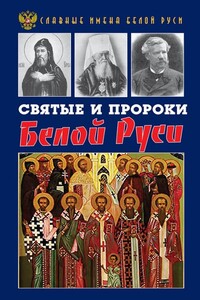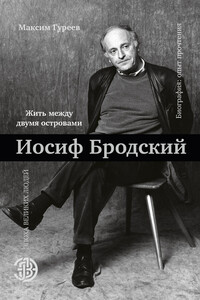Струве: левый либерал 1870-1905. Том 1 - страница 54
В этой книге в анализ российской экономики вплетается изложение марксистской социологии, при этом особо подчеркивается род связи, существующей между производительными силами общества и его структурой.
Целью этих разделов является дискредитация «субъективного метода» и замена его «экономическим материализмом» как единственно научным взглядом на историю. Однако при этом Струве отнюдь не следует рабски за Марксом. «Примыкая по некоторым основным вопросам к совершенно определившимся в литературе взглядам [то есть марксизму), — пишет в предисловии Струве, — он [автор] нисколько не считал себя связанным буквой и кодексом какой-нибудь доктрины. Ортодоксией он не заражен, если только под ортодоксией не разуметь стремления к последовательному мышлению»[197]. Как бы в подтверждение своих слов Струве подверг критике (как правило, короткой, случайной и отстраненной) некоторые базовые принципы марксизма. Таким образом, оценивая роль «Критических заметок» в истории социалистической мысли, можно сказать, что эта книга выполнила две функции: с одной стороны — подвергла марксистской критике как «субъективный метод», так и всю идеологию исторического волюнтаризма, довлевшую над умами российских интеллигентов в течение 1870-х и 1880-х годов; но с другой — сделала первый вклад в дело европейского ревизионизма.
Книга поделена на шесть частей, дополненных таблицами статистических данных. Каждая из этих частей представляет собой самостоятельное целое. (Этот недостаток композиции явился, возможно, следствием того, что книга была составлена из отдельных журнальных публикаций.) Единственной и едва заметной связующей нитью между частями книги является расположение их в порядке, так сказать, убывания уровня абстрагирования от действительности: от философии к социологии и далее к экономическим проблемам.
Первая часть посвящена проблемам, связанным с идеологией «народничества». Для того чтобы привязать к ней мыслителей, в действительности сходившихся лишь в негативном отношении к определенным вопросам, Струве обновил классификацию, поделив «народников» на «западников» и «славянофилов». К первым он отнес Михайловского, Лаврова и Южакова, разделявших мнение, что история делается личностями. Идеологию этой группы Струве определил как «субъективный идеализм». Другие, славянофилы, были объединены по признаку недоверия к интеллигенции и преклонения перед общинным духом простого народа. К этой группе Струве отнес прежде всего В. Воронцова, а также И. Каблица-Юзова и В. С. Пругавина. «Всем этим писателям присуща, правда, в разной степени, вера в возможность «самобытного развития» России. Эта вера объединяет писателей самого различного склада, от г. Михайловского до г. Юзова, в одно направление, которому мы присваиваем название народничества»[198]. Однако Струве умолчал о том, что эта вера (с чем он согласился в другом месте)[199] разделялась большинством профессиональных русских экономистов; точно так же он умолчал и о том, что в вопросах, касающихся таких важных предметов, как историческая роль интеллигенции и будущее мелкомасштабной экономики, так называемые народники очень сильно расходились во мнениях. Деление народников на западников и славянофилов оказалось столь непродуктивным, что позднее Струве к нему не обращался.
Во второй части книги, полагая, что он доказал наличие логически непротиворечивой народнической идеологии, Струве предпринял попытку в качестве ее антитезиса представить теорию экономического материализма. Рассуждения, раскрывающие основные положения этой теории, содержат в себе, возможно, первое изложение философии истории Маркса и Энгельса, легально опубликованное в России. Если не принимать во внимание немногочисленные полемические отступления, материал этой части книги изложен достаточно четко и последовательно. В отличие от субъективного идеализма, пишет Струве, теория экономического материализма «просто игнорирует личность как социологически ничтожную величину»