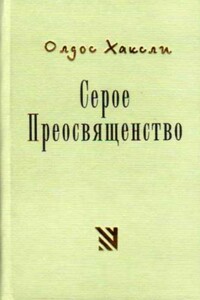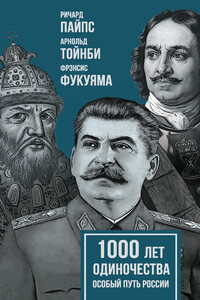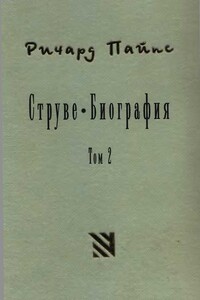Глава 3. Переход на сторону социал-демократии
Обозревая историю развития человеческой мысли, нередко можно натолкнуться на мыслителя, о котором говорится, что он придерживался строго определенных убеждений: вот именно в том-то и таким образом, говорят вам, он «был убежден», и эта его «убежденность» объятия ет, почему он придерживался неких определенных поли тических и общественных взглядов. Существование подобных личностей, для которых характерна такая цель ность убеждений, не вызывает сомнений, но они редко бывают достаточно интересны для того, чтобы обратить на себя серьезное внимание исследователя, занимающегося историей человеческой мысли. Если вдуматься в суть проблемы, то станет ясно, что истинные мыслители редко дают захватить себя какой-нибудь idée fixe, а находятся в плену сразу двух или даже нескольких нестыкующихся, а то и противоречащих друг другу идей. Именно в этом случае охваченный противоречивыми устремлениями мыслитель, пытаясь сопрячь несопрягаемые элементы в единую гармоническую систему, развивает то напряжение мысли, которое означает подлинную ее работу. Определить инициирующие этот процесс идейные полюса — значит найти ключ к взглядам серьезного и независимого мыслителя.
В отношении Струве два таких полюса уже были обозначены: это национализм и либерализм. В конце XIX века эти понятия трудно сопрягались между собой: европейский национализм к этому времени модифицировался в антилиберальную консервативную идеологию, делающую ставку не на личность и свободу, а на государство и власть. Поэтому для того, чтобы объединить национализм и либерализм в нечто цельное, Струве должен был проявить немалую изобретательность. Большая часть его идеологических метаний, вызывавших немалое удивление у его современников, была вызвана тем, что он отдавал предпочтение то либерализму, умаляя значение национализма, то национализму, ставя либерализм на второе место. И словно для того, чтобы окончательно запутать ситуацию, Струве долгое время присоединял к ним еще одну идею, которая в определенном смысле нивелировала первые две. Речь идет о своего рода крайней форме позитивизма — убежденности в юм, что «реально» лишь эмпирически контролируемое, а все, что не поддается этому контролю — идеализм, метафизика, волюнтаризм и тому подобные вещи, — вне ума не существует.
Само по себе наличие позитивизма у Струве неудивительно: в эпоху, на которую пришлось формирование его личности, позитивизм был философией фактически всей российской интеллигенции. Но, как уже отмечалось, российские позитивисты с большим энтузиазмом приняли те поправки, которые Конт позднее внес в созданную им систему. Видя в них основания для ослабления исходного базиса этой системы, они ввели в нее немалую долю «субъективизма» и в результате освободили человеческую историю от законов позитивной науки. Струве же занял независимую позицию: он отказался следован» сложившейся в России традиции и пытался оставаться чистым и бескомпромиссным позитивистом. Сложность сочетания столь суровой формы позитивизма с либерализмом очевидна: последний базируется на естественном законе, неотъемлемых правах, свободе и подобных им принципах, действие которых не поддается эмпирическому контролю и которые, с точки зрения позитивизма, представляют из себя метафизическую чепуху. Что же до национализма, то он тоже весьма трудно увязывался с позитивизмом, поскольку требовал уважения к авторитету и традиции, которые позитивизм отвергал как таковые. Проявляя лояльность по отношению ко всем трем идейным полюсам — либерализму, национализму и позитивизму, — Струве находился в непрерыной интеллектуальной сумятице вплоть до 1900–1901 годов, когда он, наконец, решил отказаться от позитивизма. После этого его интеллектуальная эволюция несколько спрямилась.
Большинство российских позитивистов в отношении философии представляли из себя полных дилетантов. Действительно, позитивизм освобождал их от необходимости изучать философию, поскольку с точки зрения этого учения она полностью растворена в других науках. Струве и в этом вопросе занял независимую позицию. Он стал первым известным российским радикалом, который владел терминологией и обладал прочными знаниями в области истории и философии, включая логику. И хотя его философские работы не отличались ни ясностью мысли, ни оригинальностью, тем не менее, в ходе теоретизирования по любым вопросам, он демонстрирует понимание специфики проблем, стоящих за формулировками, включающими в себя такие понятия как свобода, необходимость или «диалектика», что явно отсутствует в работах Михайловского или Плеханова.