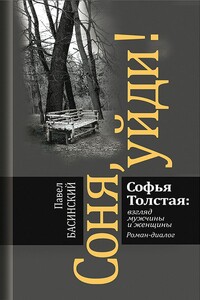Повесть «Детство» тоже написана в эмиграции. Но это была другая эмиграция. После поражения первой русской революции (1905—1907 гг), в которой Горький принимал активное участие, он вынужден был уехать за границу, так как в России считался политическим преступником. Даже после политической амнистии, объявленной императором в 1913 году в связи с трехсотлетием царского дома Романовых, вернувшийся в Россию Горький был подвергнут следствию и суду за повесть «Мать». А в 1912—1913 годах повесть «Детство» писал на итальянском острове Капри русский политический эмигрант.
«Вспоминая свинцовые мерзости дикой русской жизни, – пишет Горький, – я минутами спрашиваю себя: да стоит ли говорить об этом? И, с обновленной уверенностью, отвечаю себе – стоит; ибо – это живучая, подлая правда, она не издохла и по сей день. Это та правда, которую необходимо знать до корня, чтобы с корнем же и выдрать ее из памяти, из души человека, из всей жизни нашей, тяжкой и позорной».
Это не детский взгляд.
«И есть другая, более положительная причина, понуждающая меня рисовать эти мерзости. Хотя они и противны, хотя и давят нас, до смерти расплющивая множество прекрасных душ, – русский человек все-таки настолько еще здоров и молод душою, что преодолевает и преодолеет их».
И это тоже слова и мысли не Алексея, сироты, «божьего человека», а писателя и революционера Максима Горького, который одновременно раздражен результатами революции, винит в этом «рабскую» природу русского человека, но и надеется на молодость нации и ее будущее.
«Без церковного пенья, без ладана…»
Чтение повестей «Детство», и «В людях» дело хотя необыкновенно трудное, но и увлекательное. В этих повестях заключен шифр ко всей биографии Горького.
Если воспринимать эти повести с некоторой степенью уважительного, но все же скептицизма и относиться к ним как к реалистическим автобиографиям, то открываются вещи удивительные и…странные. Несомненно, что сам Горький, когда писал «Детство» и «В людях», именно с уважительным недоверием смотрел на личность Алексея Пешкова и не всегда отождествлял его с собой.
Кстати, это раздвоение «я» вообще было характерно для Горького. Оно проявилось уже в письме к Е.П.Волжиной, невесте, а затем жене. Это раздвоение имело как будто иронический характер: жених естественно слегка кокетничал перед возлюбленной. Но за этой иронией сквозило и нечто серьезное.
«Прежде всего Пешков недостаточно прост и ясен, – пишет он в мае 1896 года, – он слишком убежден в том, что не похож на людей, и слишком рисуется этим, причем не похож ли он на людей на самом деле – это еще вопрос. Это может быть одной только претензией. Но эта претензия позволяет ему предъявлять к людям слишком большие требования и несколько третировать их свысока. Как будто бы умен один Пешков, – а все остальные идиоты и болваны. <…> А главное – его трудно понять, ибо он сам себя совершенно не понимает. Фигура изломанная и запутанная. Помимо этих, очень крупных недостатков есть и другие, из которых одни я позабыл, другие не знаю, о третьих не хочу говорить, потому что скучно и потому, что мне жалко Пешкова – я люблю его. И только я действительно люблю его. О достоинствах этого господина я не буду говорить – ты, должно быть, лучше меня знаешь их. Но вообще – предупреждаю, и совершенно серьезно, Катя, – вообще этот человек со странностями. Иногда я склонен думать, что он своеобразно умен, но чаще думаю, что он оригинально глуп. Главное – он слишком непонятен, вот его несчастье».
Пристальное прочтение этих двух повестей производит на читателя двойственное впечатление. Автор как будто сам удивлен формирующейся перед ним личностью, с недоверием изучает ее и делает для себя какие-то выводы, о которых не сообщает, а только намекает читателю. Он словно говорит: «Черт знает что это за мальчик. Но мне кажется…» Далее попадаем в густой лес знаков, символов, намеков.
На исповедь в церковь крещеный Алексей Пешков впервые попадает будучи подростком, когда работает прислугой в семье подрядчика, родственника своей бабушки. Как такое могло случиться? В семье B.C.Сергеева