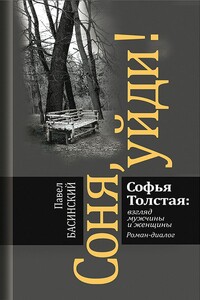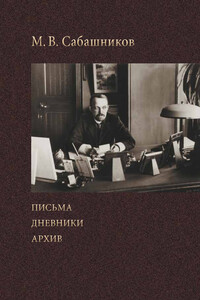Короленко впервые (Толстой почувствовал это раньше, познакомившись с «На дне») понял, что Горький не просто писатель-романтик, а новый философский и, если угодно, религиозный лидер.
«Подлинный Человек, – писал он в «Русском богатстве», – не противостоит человеку и человечеству, а состоит «из порывов мысли, из кипения чувства, из миллиардов стремлений, сливающихся в безграничный океан и создающих в совокупности представление о величии всё совершенствующейся человеческой природы».
«Человек» г-на Горького, насколько можно разглядеть его черты, – есть именно человек ницшеанский: он идет «свободный, гордый, далеко впереди людей (значит – не с ними?) и выше жизни (даже самой жизни?), один, среди загадок бытия…» И мы чувствуем, что это «величание», но не величие. Великий человек Гёте, как Антей, почерпает силу в общении с родной стихией человечества; ницшеанский «Человек» г-на Горького презирает ее даже тогда, когда собирается облагодетельствовать. Первый – сама жизнь, второй – только фантом».
Отрицательно принял «Человека» и художник М.В.Нестеров. Он писал своему другу А.А.Турыгину: «"Человек" предназначается для руководства грядущим поколениям, как «гимн» мысли. Вещь написана в патетическом стиле, красиво, довольно холодно, с определенным намерением принести к подножью мысли чувства всяческие – религиозные, чувство любви и проч. И это делает Горький, недавно проповедовавший преобладание чувства над мыслью, всею жизнью доказавший, что он раб «чувства»…» И ему же Нестеров писал чуть позже о Горьком: «Дилетант-философ в восхвалении своем мысли позабыл, что все лучшее, созданное им, создано при вдохновенном гармоническом сочетании мысли и чувства».
Резко отозвался о «Человеке» Лев Толстой. К тому же это был публичный отзыв, напечатанный в газете «Русь». «Упадок это, – сказал корреспонденту газеты Лев Толстой, – самый настоящий упадок; начал учительствовать, и это смешно…» В разговоре с тем же корреспондентом Толстой говорил: «Человек не может и не смеет переделывать того, что создает жизнь; это бессмысленно – пытаться исправлять природу, бессмысленно…»
24 июля 1904 года А.Б.Гольденвейзер записал в дневнике: «Говорили о Горьком и о его слабом «Человеке». Л.Н. рассказал, что нынче, гуляя, встретил на шоссе прохожего, оказавшегося довольно развитым рабочим. Л.Н. сказал: "Его миросозерцание вполне совпадает с так называемым ницшеанством и культом личности Горького. Это, очевидно, такой дух времени…"»
Но, пожалуй, самый язвительный отклик о поэме принадлежал А.П.Чехову. Он писал А.В.Амфитеатрову: «Сегодня читал «Сборник», изд. «Знания», между прочим горьковского «Человека», очень напомнившего мне проповедь молодого попа, безбородого, говорящего басом на о…»
Отношение критики к «Человеку» тоже было скорее отрицательным. Известный критик «Нового времени» В.П.Буренин писал о поэме в развязном тоне: «"Человек" Горького – не «услужающий» из трактира, а «человек до того особенный», что наш сочинитель воспевает его "размеренной прозой". Создавая свою «курьезную пииму», – продолжал издеваться Буренин, – Горький руководствовался «образцами «словесности», переданными ему его первым наставником в литературе, кажется, из поваров». Это был прямой намек на повара Смурого с парохода «Добрый», где посудником служил Алеша Пешков. О конце Горького как художника писала Зинаида Гиппиус. Впрочем, защищать его пытались А.В.Амфитеатров и В. В. Стасов.
Но самого высокого отзыва о «Человеке» Горький удостоился от Леонида Андреева. Это было письмо истинного друга, поклонника не только таланта, а всей личности Горького.
«Милый Алексей! – писал он Горькому из Ялты в апреле 1904 года. – <…> Прочел я «Человека», и вот что в нем поразило меня. Все мы пишем о «труде и честности», ругаем сытое мещанство, гнушаемся подлыми мелочами жизни, и все это называется «литературой». Написавши вещь, мы снимаем актерский костюм, в котором декламировали, и становимся всем тем, что так горячо ругали. И в твоем «Человеке» не художественная его сторона поразила меня – у тебя есть вещи сильнее, – а то, что он при всей своей возвышенности передает только