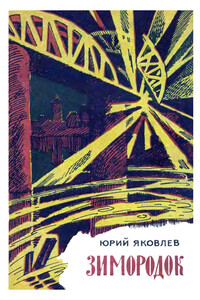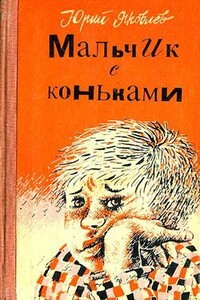На ледяном ветру я видел маму у горящей печки. И это видение согревало меня. Родное тепло оказывалось сильнее ледяного ветра.
В последнем письме мама подробно рассказывала о елке. Оказывается, в шкафу случайно нашлись елочные свечи. Короткие разноцветные, похожие на отточенные карандашики. На елке они горели, вздрагивая, и по комнате разливался ни с чем не сравнимый аромат стеарина и хвои. В комнате было темно, и только веселые блуждающие огоньки замирали и разгорались, и на темных ветвях тускло мерцали золоченые грецкие орехи.
Я лежал на снегу в тяжелой каске, в шерстяном, опущенном на лицо, как забрало, подшлемнике, в шинели, затвердевшей от мороза, а осколки снарядов плюхались в снег — большие, рваные куски металла. Вот один упал совсем рядом… Гори, гори, елка! Мерцайте, позолоченные орешки! Хорошо, что где-то около, мамы есть островок мира, где все по-прежнему. Тепло и спокойно. И мама в безопасном месте. И единственная ее тревога — это я.
Вот какой спектакль разыгрывался в моем сознании в жестких снегах военного Подмосковья — его подарила мне мама. Именно спектакль, легенда, сочиненная мамой в ледяном Ленинграде, в доме, где стекла были выбиты взрывной волной, а печка была мертва и белела в углу, как наметенный вьюгой, сугроб. Какая там елка, какие свечи! Это письмо мама писала, умирая от голода. Она не просто голодала. В нее стреляли голодом. Это был смертельный голод.
А я поверил героическому материнскому Театру, был слишком молод, не замечал, что буквы кривые, строки неровные, не догадался, что их выводила рука, лишенная сил, для которой перо было тяжелым, как топор.
Я верил, и в ответ на это письмо писал свои первые военные стихи:
Между стройных сосен корабельных,
По полям в пургу и снегопад
Две холодных рельсы параллельных
Убегают прямо в Ленинград.
Здесь давно колеса не гремели,
Над путями не клубился дым.
Рельсы поржавели, потускнели
И покрылись инеем седым.
Но я верю, пробегут недели,
Рельсы снова оживут тогда.
С шумом, с громом через все метели
Побегут на север поезда.
Ржавчина исчезнет, стает иней.
Ближние леса заговорят.
И меня две рельсы темно-синих
Возвратят обратно в Ленинград.
Мои стихи уже не застали маму. Она умерла в блокадном Ленинграде.
Таким был мой фронтовой Театр. Такой была эта театральная правда.
Боже мой!
Сморщенный прошлогодний листок по-прежнему лежал на жестком снегу в городском сквере, но уже не напоминал мне солдата с высоты птичьего полета. Он скорей походил на ребенка — блокадную девочку, у которой не хватило сил и она упала на снег. И никого не оказалось рядом, чтобы помочь ей подняться. Но сегодня рядом был я. И я нагнулся к листку, опустился на колени и стал дыханием отогревать его. Листок вздрогнул, шелохнулся, чуть-чуть зашуршал. И в этом шорохе мне послышалось простуженное, хриплое дыхание. И я позвал:
— Таня… Таня…
Каждый человек — главное действующее лицо в своем Театре.
Действующее лицо, но не герой!
Герой — это тот, кем восхищаешься, к кому тянешься, за кем хотя бы в мечтах хочешь следовать, идти. Не будешь же восхищаться самим собой, идти за самим собой! Смешно.
Сухой листок на снегу обернулся первой героиней мистерии, которую предстояло разыграть моему Театру, — блокадной девочкой Таней Савичевой. Я был готов вступить на сцену и открыть занавес, но инстинктивно почувствовал, что мне одному не справиться с этой задачей. Так рядом со мной появились два действующих лица. Вернее, это были не лица, а маски. Одна — с низко опущенными уголками скорбного рта, другая — с улыбкой до ушей. Они вышли на сцену и поклонились почтенной публике.
И взял художник в руки
Гусиное перо
И, вытирая слезы,
Назвал меня Пьеро.
Так представилась первая маска. И словно пародируя первую, чуть ерничая, в действие вступила вторая маска:
А я стоял под аркой
Разряжен, как павлин.
Поэт сказал: "Не каркай,
Ты будешь Арлекин".
Некоторое время маски с интересом разглядывали друг друга. Так осваиваются два незнакомых пассажира, очутившись в одном купе. Но они были масками и им нетрудно было понять правила игры — ведь в масках всегда есть что-то примитивное, однозначное, как белое и черное, никаких оттенков.