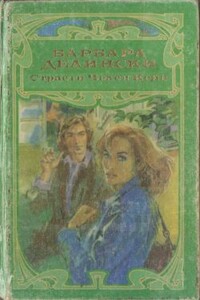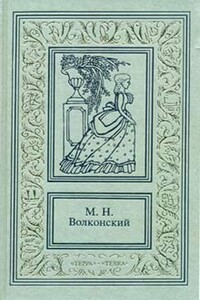Она что было сил старалась сдержать потуги. Ей так хотелось удержать свое дитя в себе как можно дольше. Она еще не готова была расстаться с ним. Но тело отказывалось повиноваться ее воле. Схватки начались вчера вечером, и с тех пор ее почти непрерывно терзала чудовищная, ни с чем не сравнимая боль, ставшая еще одной каплей в чаше страданий, испитой ею за последние несколько месяцев… Казалось, ни одно живое существо не в силах вынести подобных мук, однако боль внезапно стала еще сильнее, и к ней присоединились самопроизвольные сокращения мышц живота.
Тело выталкивало ее ребенка в мир, в жизнь, в вечную разлуку с матерью… Стоявшая подле нее молоденькая повитуха наклонила голову и сжала тонкими пальцами щиколотки ее согнутых в коленях ног.
В комнате, освещенной лишь слабым огнем крохотной печурки, царил полумрак. Ночную тьму за окном сменил едва занимавшийся тускло-серый рассвет. От невыносимой боли и отчаяния сознание ее затуманилось, и ей стало казаться, что это он своей волей заставил ее дитя появиться на свет именно теперь, когда весь городок погружен в предутренний сон, чтобы никто никогда не узнал о случившемся. Пятно позора, который она навлекла на Норвич Нотч, будет самым тщательным образом уничтожено, и городок проснется таким же безупречно чистым, каким был всегда.
Новый приступ боли сотряс ее измученное тело, и на сей раз она не смогла сдержать протяжный, жалобный крик, прорезавший тишину едва занимавшегося утра. Когда боль немного ослабла, она принялась жадно хватать ртом воздух. Кругом царило такое глубокое безмолвие, что даже звук ее тяжелого прерывистого дыхания казался слишком громким. Она горько усмехнулась про себя, подумав, что гораздо более подходящим фоном для столь скандального события, как рождение ее несчастного ребенка, послужил бы бушующий ураган или, на худой конец, проливной дождь из тех, что зачастую обрушиваются на Нью-Гемпшир в конце марта. Ах, если бы и вправду нынешней ночью разразился ливень! Он размыл бы все дороги, все подступы к городку, и никто не смог бы добраться до нее. Тогда ей удалось бы хоть ненадолго удержать при себе свое дитя…
Но над городом занималось удивительно тихое, безмятежное утро, прохладный воздух был сух и недвижим, и в этом словно нарочитом спокойствии ей чудилась зловещая насмешка над ее безысходным горем.
Живот ее снова напрягся, и все тело охватила невыносимая боль, которая, как ей казалось, свила все ее внутренности в тугую спираль, с каждым витком сжимавшуюся все сильнее. Ей мучительно захотелось вложить ослабевшие пальцы в чью-нибудь добрую, участливую руку, ощутить сострадание к себе, любовь и заботу. Но, зная, что это невозможно, она вцепилась обеими руками в скомканную простыню и стиснула зубы, чтобы удержать рвавшийся из груди крик боли и отчаяния.
– Тужьтесь сильнее, – раздался словно откуда-то издалека звонкий голос шестнадцатилетней девушки, дочки местной повитухи, на которую была возложена обязанность помочь появиться на свет этому презренному, заранее отвергнутому городом ребенку.
– Тужьтесь! – взволнованно повторила она. – Сильнее! Еще, еще! Я уже вижу головку ребенка!
Она же, напротив, старалась сдержать потуги. Ведь ребенок, который пока еще находился в ее теле, был единственным, что ей удалось создать. Но, едва появившись на свет, он будет отнят у нее. Как знать, может быть, ему это тоже известно. Возможно, он именно к этому и стремится, раз ему так не терпится увидеть свет Божий и разлучиться с ней. Но разве можно осуждать его за это? Ведь она ничего, кроме своей любви, не может и никогда не сможет ему дать, а разве одной любви достаточно, чтобы накормить и одеть малыша? Так что ребенок лишь выиграет оттого, что расстанется с ней. Поэтому она и согласилась отдать его чужим людям. Но, о Боже, чего ей это стоило!
От боли, снова завладевшей ее телом, из ее головы улетучились все мысли, кроме одной – что она умирает.
Она вцепилась побелевшими пальцами в край ветхой простыни и забилась в агонии. Однако в следующее мгновение, когда боль ненадолго отпустила ее, она испытала острое разочарование – смерть, которую она призывала, не пожелала избавить ее от мучений. Она осталась жива, дрожащая от непосильного напряжения, истекающая потом, мучимая болью и горечью невосполнимой утраты.