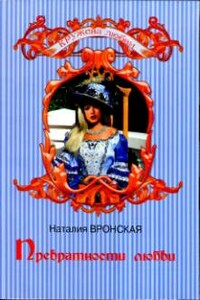И вот впервые в жизни она стала напоминать самой себе бабочку, что появляется на свет из куколки.
Она до сих пор с трудом верила, что в последний месяц ей было позволено выйти на сцену и танцевать.
Пусть даже от нее требовалось вести себя самым диковинным образом: в театре ни с кем не заговаривать, без промедления уходить за кулисы вслед за Энди и спешить покинуть театр сразу же после переодевания.
И все равно это означало выход из плена, плена необычайно уютного и радушного, но с дверьми на засовах и зарешеченными окнами…
Лежа на постели с закрытыми глазами, Локита размышляла над тем, что бы могло произойти, прими она приглашение князя отправиться с ним на ужин.
Раз за разом она перечитывала строки, написанные на обороте его карточки:
«Отужинайте со мной, и вы сделаете меня счастливейшим из смертных».
Да, конечно, то лишь условная формула, говорила она себе и все же чувствовала, что ей доставило бы удовольствие способствовать его счастью.
Было в нем нечто неуловимое, недоступное ее пониманию, что затронуло некую струнку в ее душе, как и в подаренных им цветах, как и в бабочке-броши, — та, хоть Энди и сочла ее оскорбительной, выдавала его изумительный вкус.
«Впрочем, едва ли мне доведется обмолвиться с ним словечком», — с мимолетным вздохом подумала она.
И внезапно все ее существо яростно воспротивилось этой мысли.
Как обычно, в театр они отправились в заказном фиакре, нанятом Сержем, когда подоспело время покидать их уютный домик.
Локита догадывалась, что мисс Андерсон с удовольствием бы просила Сержа сопровождать их в качестве телохранителя, однако боялась, как бы это не вызвало нежелательных кривотолков и не показалось несколько нарочитым.
Этим же объяснялось ее нежелание брать в аренду экипаж, который бы доставлял их в театр и ждал их возвращения.
Прочие артистки садились в фиакры, что выстраивались в ряд вдоль здания театра, и только дамы, имеющие состоятельных покровителей, пользовались собственными экипажами или же усаживались в кареты этих господ, жаждущих показаться перед ними во всем блеске в одном из модных парижских местечек.
В этот вечер Локита, ожидая выхода за кулисами, вместо того чтобы привычно сосредоточится на предстоящем выступлении, сквозь щель в занавесе разглядывала собравшуюся публику.
Зрительный зал, как обычно, был забит до отказа, и появление лазурного озера с плавающими там нимфами вызвало гром рукоплесканий.
Рассматривая длинные ряды партера, сверкающих драгоценностями дам, мужчин в белоснежных манишках, Локита впервые в жизни вдруг ощутила, что ее публика состоит из людей вполне реальных, из плоти и крови, таких же, как она сама, людей, не чуждых тем же мыслям и переживаниям.
Ранее же — отчасти потому, что танец овладевал всеми ее чувствами, а также из-за того, что все пространство, огражденное огнями рампы, виделось ей окутанным сиреневой дымкой — публика представлялась ей лишь невещественным средоточием шума.
Переведя взор от партера на ложи, она увидела его. Он сидел в противоположном углу зала, в огромной, украшенной позолотой ложе за бархатными портьерами, совершенно один.
Он не смотрел на сцену, где разыгрывали фарс комедианты, но рассеянно обводил взглядом публику, с видимым нетерпением отбивая пальцами дробь по барьеру ложи.
— Локита!
Голос мисс Андерсон прозвучал, как всегда, отрывисто и резко; отпущенный Локитой край занавеса прикрыл щель, через которую она вела свои наблюдения.
— Сосредоточься. Думай только о выступлении. — Тон Энди заставил Локиту почувствовать себя виноватой.
Она принялась дышать медленно, ритмично, как учила ее мадам Альбертини. Раздались рукоплескания, и комедианты вприпрыжку покинули сцену. В зале начал гаснуть свет.
Локита уже знала, что сегодня она будет танцевать для князя. Как когда-то танцевала для отца.
Влекомая музыкой, она, как всегда наитием, а не знанием, нащупывала рисунок своих образов.
Изнутри, подобно некой сокровенной тайне, ее озаряло чувство, что каждый жест, шаг, каждое движение ее тела принадлежит мужчине, который сейчас не спускает с нее глаз.
Словно бы они здесь вдвоем, словно бы никто их не видит…