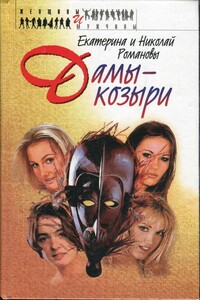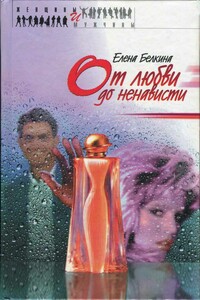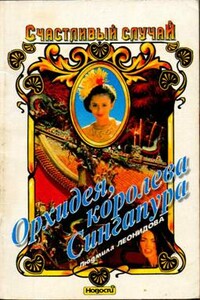Словно торопясь закрепить в себе вернувшуюся память, она встала и начала оглядываться, ходить везде, осматривать вещи, УЗНАВАЯ их.
Открыла шкаф, достала газовый шарфик, вдохнула запах.
ОН, ИГОРЬ, ПОДАРИЛ ЭТОТ ШАРФ ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ЛЕТ НАЗАД. ОНИ БЫЛИ ТОГДА НЕВООБРАЗИМО СЧАСТЛИВЫ.
С жадностью всматривалась она в любимое спящее лицо дочери.
С нежностью, словно вернулась из далекого путешествия, глядела в родное лицо мужа. Пошла на кухню и перебирала там посуду, узнавая каждую трещину и выбоинку в тарелках, кастрюлях, чашках…
Все прошло.
Через пару дней она позвонила психиатру, чувствуя себя все-таки обязанной ему.
Тот сухо поздравил ее, почему-то даже не поинтересовавшись, как все случилось. Попросил прийти и закрыть у дежурного врача больничный лист. А его не будет всю неделю, он ведет семинар для заочников в институте. (Неужели в медицинском институте есть заочные отделения? — мимоходом подумала Лиза.)
Вскоре все узнали о ее выздоровлении. Поздравляли — и, кажется, искренне. Всматривались, словно чего-то ждали.
И дождались: Лиза подала заявление об уходе. И стала искать работу. Звонила и ходила по объявлениям. Ее владение компьютером было на любительском уровне, английским языком — и того хуже, но все же несколько довольно заманчивых предложений ей сделали, однако все эти предложения, как поняла Лиза, связаны были исключительно с ее внешними данными.
В это время Игорь, как-то сильно изменившийся вдруг, напрочь бросивший пить и покинувший, судя по всему, свою бабенку из рюмочной, в считанные дни устроился в фирму неприступного и неуловимого доселе Чукичева и так быстро набрал там обороты, таким стал пользоваться авторитетом, что не прошло и месяца, а он уж был руководителем одной из коммерческих структур в разветвленной сети Чукичева, и Чукичев уже два раза его своей левой рукой назвал (правой рукой была его жена, пятидесятипятилетняя особа, фактическая владелица всего, унаследовавшая это от трагически погибшего мужа, взамен которого и явился молодой и юркий Чукичев. Точнее сказать, он был ее правой рукой).
Поэтому Игорь сказал Лизе: отдыхай, набирайся сил.
И она отдыхала.
На самом деле она просто наслаждалась жизнью. Она наслаждалась сном (правда, не сразу отступил страх проснуться опять беспамятной и первое время мучила бессонница), наслаждалась пробуждением, утренним душем, приготовлением завтрака, дружным и торопливым утренним застольем, тишиной после ухода дочери и мужа, книгами, телевизором. Наслаждалась, просто стоя на балконе, глядя на дальний лес за городом, на синее небо, на воробьев, прыгающих по веткам, на кошку, вприглядку охотящуюся за воробьями; и даже в скопище автобусов она находила какой-то необходимый и почти прекрасный рациональный человеческий смысл.
Так прошло несколько недель.
И вот Лиза стала замечать, что ясность душевной радости иссякает в ней, а на смену приходит с такой же силой ясность тоски.
Она поняла, что ее возвращение обманчиво, что оно осуществилось не полностью. Она вспомнила все о театре — и свою отравленность театром. Да, она ходила на эти дурацкие курсы, изучала компьютер и английский язык, но это скорее был жест для самой себя и для других: не так уж, дескать, нужен мне ваш паршивый театр, обойдусь, проживу, есть куда уйти. На самом деле она не хотела и не могла уйти, она жила театром. А теперь при одной мысли о сцене, охватывает чувство отторжения: не хочу, не могу, не буду!.. Она вспомнила о своей трудной, выдержавшей многие испытания любви к мужу, но сама любовь не вернулась. Она радовалась, она была счастлива возвращению памяти, но это было счастье не полноценного воспоминания, а узнавания, обретения почвы под ногами после нескольких страшных дней душевной качки или невесомости. Главное: ОНА НЕ СТАЛА ПРЕЖНЕЙ. Та, прежняя Лиза, была, как она теперь не только знает, но и помнит о себе, гордячкой, отчасти интриганкой, отчасти жесткой и даже жестокой, но она умела и любить. У нее была страсть одерживать победы, пусть кто-то считал их мелкими. А сейчас ничего не хочется. То есть хочется, конечно, жить по-новому, но как?