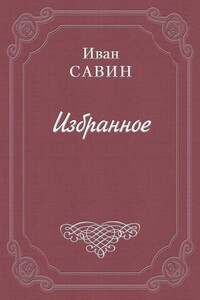Бешено скрипели колеса. Сливаясь с эхом стрельбы, морозный ветер леденил пальцы. Знакомое опьянение борьбой снова натянуло нервы Чубеко до того, что, казалось, слышит он сумасшедшее биение всех сердец, видит, как пылают зрачки всех глаз в этом летящем по равнине снега и смерти эшелоне.
Казалось простым и понятным, казалось совсем не страшным, что однорукий Фомка, скрючившись над винтовкой, с остервенением рвал курок и, после каждого выстрела, кричал восторженно:
— А любо, господин корнет. Ох, любо! Пли! Хватил? Пли, дрянь!
Казалось естественным, что Папаша стоя стрелял в синеватую мглу. Давно уже была пуста обойма в винтовке старика, давно уже щелкал его курок по пустым гильзам, но, качаясь на прыгающей платформе, он по-прежнему целился куда-то, по-прежнему надтреснутым голосом говорил кому-то:
— Так-с, пальнем. Так-с.
Как было чудесно и ясно и то, что Ткаченко дырявил своим пулеметом не только оставшегося позади врага, но и все, бешено плывшее перед глазами: железнодорожные щиты, шпалы, сугробы снега, синеватую, искрящуюся мглу.
Сразу утихла пальба. Уже Петя снял английскую фуражку, вытирая вспотевший лоб, когда оттуда, с потонувшей вдали реки, прорезая воздух тонким ножом, упал снаряд.
Упал на крышу соседнего вагона, где умирал военный чиновник Будков, где спал всклокоченный Черт. Папаша как-то растерянно не то уронил, не то бросил винтовку. Корнету вдруг вспомнилась оранжевая в черную полоску коробка папирос «Фат».
«Курили их тайком на переменках в сторожке гимназии… Сейчас разорвется… А классный наставник Владимир Павло…»
Разметав ржавое железо, испорошив гнилые доски, снаряд окутал теплушку и платформу едким дымом. Стеклянный грохот разрыва вибрирующей волной поплыл над заснеженной степью.
Когда ветер сдул с платформы дымку, мертвый корнет лежал у изломанного пулемета, тесно прижавшись окрававленной грудью к люстриноваму пиджаку старика. Раздробленная осколком голова Папаши билась о плечи Чубеко. Запекшиеся куски рыжего котелка прилипли к вискам. Старик, ловя судорожно открытым ртом морозную пыль, шептал мертвому корнету:
— Понял я… И искупил… Оба умер… мерли… Пальнем… Так-с…
Английская фуражка Пети повисла на расщепленных досках. Его самого, старшего унтера и Фомку, ударив о борт платформы, снесло на полотно.
Впереди разгорающимся пламенем горела теплушка. Монотонная музыка метели глушила последние крики военного чиновника Будкова и мучительный вой Черта.
Эшелон, как раненная птица, из последних сил несся вперед.
Задние колеса охваченной огнем теплушки по-прежнему скрипели очень подозрительно. Может быть, перегорала ось.
Впрочем, Фомка говорил, что железо ни за какие двадцать не горит, а все это господские выдумки.
(Былой нарвский листок. 1925. 24, 28 марта. Новые русские вести. 1925. 22–24 марта. № 377–379, под названием «В теплушке»).
Говорили о чудесах. Одним то или иное невероятное происшествие казалось простым стечением обстоятельств, игрой случая. Другие усматривали в нем руку Высшей Силы.
Равномерно и глухо катило ночное море шумные волны свои к затерянному на просторе острову. Круглый, оранжевый щит луны, казалось, чуть колыхался в вышине. Отражение его в воде широким снопом подбегало к нелюдимым скалам, взбиралось на них, роскошно горя на иглах одинокой сосны. Тени от скал мнились тенями покойников. Далеко на море тревожно выла сирена.
И лунный щит, и каменные мертвецы, и вопль сирены давили сердце непояснимой, только в безлюдье знакомой таинственностью. И под этой сладкой и грустной тяжестью еще разительнее были рассказы о чудесах.
Раскладывая костер, страшную историю о богохульнике-звонаре, убитом упавшим на него колоколом, рассказал Ситников, безногий доктор в забавных черепаховых очках. Помолчали.
Сухой хворост горел веером. Доктор подбросил сучьев и вдруг поднял голову, внимательно к чему-то прислушиваясь.
— Слышите, господа?
Вокруг острова была мертвая тишина. Но с вышины, от лунного щита явно доносился колокольный звон. Низкий гул тяжело спускался в воду.
— Поблизости нигде церквей нет, — сказал я недоумевая. — Может быть, это дальнее эхо?