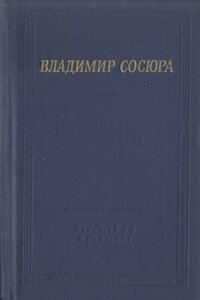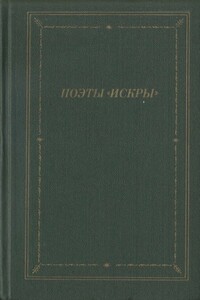Госпиталь.
Всё в белом.
Стены пахнут сыроватым мелом.
Запеленав нас туго в одеяла
и подтрунив над тем, как мы малы,
нагнувшись, воду по полу гоняла
сестра.
А мы глядели на полы.
И нам в глаза влетала синева,
вода, полы…
Кружилась голова.
Слова кружились:
«Друг, какое нынче?
Суббота?
Вот, не вижу двадцать дней…»
Пол голубой в воде, а воздух дымчат.
«Послушай, друг…» —
И всё о ней, о ней…
Несли обед.
Их с ложек всех кормили.
А я уже сидел спиной к стене,
и капли щей на одеяле стыли.
Завидует танкист ослепший мне
и говорит
про то, как двадцать дней
не видит. И —
о ней, о ней, о ней…
«А вот сестра,
ты письма продиктуй ей!»
— «Она не сможет, друг,
тут сложность есть».
— «Какая сложность? Ты о ней не думай…»
— «Вот ты бы взялся!»
— «Я?»
— «Ведь руки есть?!»
— «Я не смогу!»
— «Ты сможешь!»
— «Слов не знаю!»
— «Я дам слова!»
— «Я не любил…»
— «Люби!
Я научу тебя, припоминая…»
Я взял перо.
А он сказал: «Родная!»
Я записал.
Он: «Думай, что убит…»
«Живу», — я написал.
Он: «Ждать не надо…»
А я, у правды всей на поводу,
водил пером: «Дождись, моя награда…»
Он: «Не вернусь…»
А я: «Приду! Приду!»
Шли письма от нее. Он пел и плакал,
письмо держал у просветленных глаз.
Теперь меня просила вся палата:
«Пиши!»
Их мог обидеть мой отказ.
«Пиши!»
— «Но ты же сам сумеешь, левой!»
— «Пиши!»
— «Но ты же видишь сам?!»
— «Пиши!..»
Всё в белом.
Стены пахнут сыроватым мелом.
Где это всё? Ни звука. Ни души.
Друзья, где вы?..
Светает у причала.
Вот мой сосед дежурит у руля.
Всё в памяти переберу сначала.
Друзей моих ведет ко мне земля.
Один мотор заводит на заставе,
другой с утра пускает жернова.
А я?
А я молчать уже не вправе.
Порученные мне горят слова.
«Пиши! — диктуют мне они.
Сквозная
летит строка.
— Пиши о нас! Труби!..»
— «Я не смогу!»
— «Ты сможешь!»
— «Слов не знаю…»
— «Я дам слова!
Ты только жизнь люби!»
1947