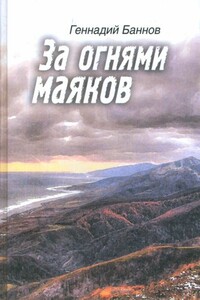Наверное, Лоррен не стоит так уж торопиться спровадить Простушку Клару домой. Ведь случись так, что правда о Глории выплывет наружу, какова ни была эта правда, лучше уж пусть это будет делом рук Клары, а не ее собственных. Тогда Лоррен хотя бы не будет чувствовать себя подлой предательницей.
7. Глория
Глории уже не раз снились огни «Зеленой мельницы». Виделось, как она бросает кольцо с бриллиантом в уличный водосборник, будто монетку в фонтан. Но прежде всего она видела во снах руки Джерома Джонсона.
Теперь, снова оказавшись в этом «тихом» баре, который был притчей во языцех, она задала себе тот же вопрос, что и в первый раз: «Зачем я здесь?» Напомнила себе, что теперь ей должно быть легче: волосы подстрижены так, как здесь принято; она знает, как нужно заказывать мартини; даже Лейф, бармен, был ей знаком. Глорию тревожило только присутствие Лоррен и Клары.
Как только вошли в бар, Глория улизнула от них. У нее не было ни малейшего желания наблюдать в тысячный раз, как Лоррен изо всех сил выпендривается перед Маркусом. А уж Клара лучше была бы на расстоянии пушечного выстрела, не ближе.
Оркестр доиграл до первого перерыва, и Глория смотрела, как Джером Джонсон встает со своего места за фортепиано, поправляет галстук-бабочку и падает в объятия роскошной негритянки.
У Глории сердце ухнуло куда-то вниз. Она сразу узнала ту самую роскошную молодую негритянку, которую видела и в первый раз — ту, что была в серебристом балахончике. На этот же раз ее высокую стройную фигурку облегало шелковое платье бронзового цвета, украшенное по подолу блестящей черной бахромой. В черных волосах поблескивала красной медью заколка, оттеняя гладкую блестящую кожу. На вид она была не старше Глории, может, даже на годик младше. А рука ее сейчас нежно обвилась вокруг талии Джерома Джонсона.
Ну как это Глория могла быть такой дурочкой? О чем только она думала — что этот чернокожий пианист так вот в нее и влюбится? Что она сможет отказаться от данного Бастиану слова и привести к себе домой на семейный обед мистера Джерома Джонсона? В высшем свете было неслыханно, чтобы белая девушка встречалась с негром, а уж для девушки из семьи Кармоди даже находиться рядом с чернокожим — ужасное преступление. Уж лучше родить незаконного ребенка от Бастиана, что, впрочем, при нынешнем состоянии их отношений было почти невероятно.
Как бы то ни было, будущее Глории предрешено, и уж теперь его никак не изменить. Она не вправе подвести свою семью — она ведь дала слово и маме, и самой себе. А сегодня вечером единственной ее целью было немного забыться и развлечься, пока до свадьбы остается хоть какое-то время. Глории приходилось постоянно напоминать себе об этом.
Она отвернулась, не в силах больше ни секунды смотреть на Джерома Джонсона. Вообще-то ей следовало уйти отсюда немедленно, пока она не обернулась и сгоряча не совершила непоправимую ошибку.
— Шикарная прическа, — проговорил ей на ухо приятный баритон. — Не хотите потанцевать?
Ей бы надо было не обратить внимания на этот голос или возмутиться, а то и дать ему пощечину за подобный небрежный тон. Но стоило ей разок взглянуть ему в лицо, и ноги сразу подкосились. Он же крепко обхватил ее обнаженные плечи, словно собирался исполнить блюз на спине Глории. В эту минуту зазвучала новая мелодия. Из граммофона полились медленные звуки песни:
Больше нет ни неба, ни роз, ни света,
Радуга поблекла, и роса не блестит.
Ангел мой, даривший мне и зиму, и лето,
Без тебя могу теперь я только грустить,
Когда ты ушла.
Строчки Ирвинга Берлина[49] говорили за Глорию то, что сама она не в силах была вымолвить.
Хотя, если на то пошло, что она могла бы сказать? У Глории было такое чувство, будто это она потеряла Джерома, вместе со всем тем, что могло бы их ожидать вместе, но ведь он никогда ей и не принадлежал. Она совершенно ничего не знала об этом чужом человеке, к которому ее так неодолимо тянуло, ничего не знала ни о его жизни, ни о семье. Она положила руки ему на плечи, а ноги тем временем стали двигаться, словно жили сами по себе. Прикосновение Джерома волновало ее, пьянило, кружило голову. Его сильные руки обнимали ее, а свежее дыхание обдавало теплом шею.