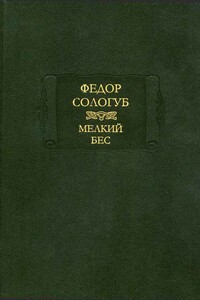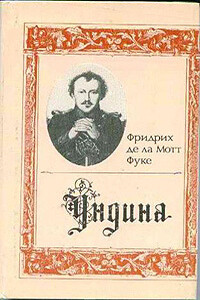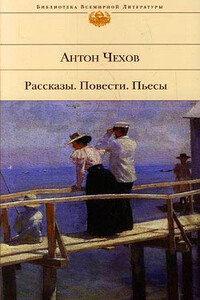«Про дороги прежние, про дороги «конем», как выразился недавно один мужичок, мы, жители столиц, стали совсем забывать. А должно быть, и на них теперь можно встретить много нового против прежних порядков. Я, по крайней мере, слышал много любопытного от рассказчиков, и так как повсеместным будто бы разбойникам я все-таки не верю вполне, то и собираюсь чуть не каждое лето проехаться куда-нибудь поглубже, по прежним дорогам, для собственного назидания и поучения».62
Свою собственную трактовку старого сюжета Чехов дал в письме к Григоровичу 5 февраля 1888 г. Письмо цитировалось по разным поводам и в разных контекстах множество раз, к нему привыкли, и чтобы понять, как далек был от своих предтеч этот молодой писатель, нужно с особенным вниманием перечитывать текст. Суть дела в том, что Григорович, улавливая родовое сходство, упускал из виду различия: Чехов понимал вещи не так, как понимали их старые романисты.
«Самоубийство Вашего русского юноши, по моему мнению, есть явление, Европе не знакомое <…> Оно составляет результат страшной борьбы, возможной только в России» (один лишь этот перенос всей проблемы на чисто русскую национально-историческую основу, вероятно, озадачивал старого писателя, начинавшего свой путь в некрасовском «Современнике», во времена славянофилов и западников). «Вся энергия художника должна быть обращена на две силы: человек и природа» (слова, которые могли бы стать эпиграфом ко всему творчеству Чехова, но не могут быть применены ни к одному из классических русских романов: герой и общество, герой и среда — вот традиционная коллизия и привычный драматический конфликт; «человек и природа» — это скорее лирическое отступление или развязка романа, а никак не его ведущий мотив). «С одной стороны, физическая слабость, нервность, ранняя половая зрелость, страстная жажда жизни и правды, мечты о широкой, как степь, деятельности, беспокойный анализ, бедность знаний рядом с широким полетом мысли; с другой — необъятная равнина, суровый климат, серый, суровый народ со своей тяжелой, холодной историей» (здесь чуть ли не в каждом слове новые подходы к теме, либо сторонние русскому роману, либо совершенно чуждые ему); «татарщина, чиновничество, бедность, невежество, сырость столиц, славянская апатия и проч… Русская жизнь бьет русского человека так, что мокрого места не остается, бьет на манер тысячепудового камня. В Западной Европе люди погибают оттого, что жить тесно и душно, у нас же оттого, что жить просторно… Простора так много, что маленькому человеку нет сил ориентироваться» (у Чехова было какое-то особое, быть может, ему одному свойственное чувство великих российских пространств, соединенное с редкой для россиянина страстью к путешествиям, «охотой к перемене мест», и единственная в своем роде способность олицетворять эти пространства и описывать их, посвящая целые страницы травам, деревьям, цветам, каким-то необыкновенным вьюгам, вдохновившим Рахманинова, — он написал симфоническую фантазию по рассказу «На пути», который и сам по себе воспринимается как симфония вьюг и метелей. И сколько различий с Тургеневым, который не любил и не описывал зиму, — только летний охотничий сезон, как будто и в самом деле держал свои пейзажи на прицеле двустволки). «Вот что я думаю о русских самоубийцах… Так ли я Вас понял? Впрочем, об этом говорить в письме невозможно, потому что тесно. Эта тема хороша для разговора» (П., 2, 190).
Чехов, таким образом, писал Григоровичу о широком психологическом спектре, о целом комплексе причин, среди которых, конечно, заняла свое место и социальная сторона жизни, самая важная для старого писателя, для классического русского романа, едва ли не для всей литературы дочеховской поры. И ни слова о безверии, безбожии и т.д., что в конце концов привело к тому, что Чехов был объявлен атеистом, хотя от истины это было весьма далеко…
Григорович, по-видимому, надеялся на создание романа в традиционном социально-психологическом ключе, хорошо освоенном в его время. Чеховская же программа была несравненно шире: в этом перечислении причин, начиная от самых обыденных, интимно-личных, до отдаленных исторических ретроспектив, до генетической памяти, в самом деле отягощенной тем, что у Чехова названо татарщиной, до бесконечных российских зим и непогожих осенних дней и ночей, заключен не один, пусть даже и многотомный, роман, а в точнейшем смысле этого слова «энциклопедия русской жизни», в которой есть и пушкинская поэтичность, и романтическое разочарование, и то, о чем позднее скажет Заречная: «Груба жизнь!», и много, много еще…