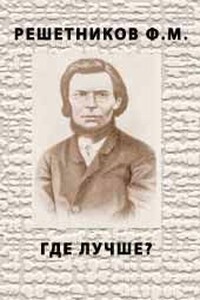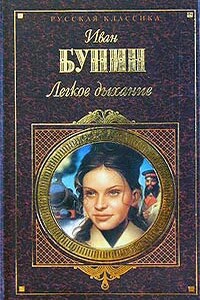Посылаю тебе, Егорушка, мое родительское благословение. Делай ты, Егорушка, по закону божию; бойся со страхом и трепетом царя небесного! Им же вся быша, и без него ничего же есть.
Местов у нас нет, а тебе, знаю, в город хочется. Дай бог, дай бог, Егорушка. Хлопочи. Я ужо продам домишко, сам приеду к тебе да Петруху захвачу с его женой, пусть порадуются на красного сокола. Какую же ты рясу-то сошьешь? Чай поди еще волосы не отросли. А ты послушай меня, старика, волосы-то деревянным маслом мажь — скорее отрастут. Не мешает и подбородок брить. Знаешь, благообразнее как-то.
Отец Федор тебе кланяется и тоже неописанно радуется. Стефанида Феодоровна кланяется. Она 2-го числа июля сочеталась законным браком с нашим становым приставом Максимом Васильевичем Антроповым. Старенек он, 56 годков, да ничего, богат больно.
Прощай, Егорушка. А невесту будешь искать, ищи богатую. А как найдешь, напиши мне, и я старые кости к тебе привезу. Буди на тя благословение мое от ныне и до века.
Твой отец Иоанн Попова
Письмо это поставило в тупик Егора Иваныча. Дело в том, что он последние два года надеялся жениться на Степаниде Федоровне. Она ему очень нравилась, хотя разговоров между ними было очень мало, а о любви и заиканья не было. Досадно сделалось, что его воображаемая невеста замуж вышла за старика, станового пристава.
Старику отцу в селе делать было нечего. Служил он в церкви по охоте, пенсион получал небольшой, с пашни и покосу тоже мало приходилось. Жена умерла назад тому два года; сын Петр дьяконом за сто верст, дочь Анна тоже замужем, в этом же селе за пономарем, от которого ему житья нет, потому что пономарь пьет и ворует у него деньги. Делать положительно нечего. Зимой весь день или лежит, или возится с детьми дочери, поет ирмосы и разные каноны и ребят заставляет петь. Летом весь день на улице. Встанет в пятом часу (а он спит в сарае), пойдет на двор, подметет, приберет кое-что и выйдет на лужайку, — греется против солнышка. Долго сидит старик, мурлыча охриплым старческим голосом песни, глядя куда-то вдаль и изредка понюхивая табак. Убаюкает старика солнышко, согреет, и заснет старик, растянувшись по мягкой траве. Подойдет к нему корова, лизнет его лицо или руку, высунувшуюся из-за халата, накинутого на плечи, лизнет своим жестким, как терка, языком, проснется старина, приподнимется, перекрестится и скажет! тпрука! тпрука! тпруконька! э, матонька!.. Погладит рукой по ноге корову и опять ляжет. Увидев крестьянина, крестьянку, или мальчика, или девушку, он непременно подзовет их к себе и начнет калякать. В особенности он ребят любил, до того, что в бабки с ними игрывал, почему все с ним обращались запросто и от семилетнего до сорокапятилетнего все называли «дедушкой». Увидят ребята, что на завалинке стародьяконовского дома нет старого дьякона, и говорят: дедушка нездоров, — и бегут наведаться к нему, но их гоняет со двора муж Анны или сама Анна, Увидят дедушку на завалинке и кричат:
— Дедушка! дедушка! хоть в бабки?
— Не могу, ребятки, спину разломило.
— А по грузди пойдем?
— Ноженьки болят.
— Пойдем, дедушка! Пойдем.
И обступят его человек двадцать молодого поколения. Дедушка никогда не отказывался от путешествия по грибы и ягоды. Ходит, бывало, с ребятами целый день, ничего не насобирает по слепоте. Ребята смеются над ним и насобирают ему наберуху и дотащат эту наберуху до села, Но главное удовольствие старика было — игра в шашки. В шашки умели играть: волостной писарь, сборщик податей, голова и двое богатых крестьян. Игра производилась с четвертого часа пополудни на улице, перед домами, и продолжалась до темноты. За игрой старик весь оживал, делался боек, разговорчив, смеялся, передразнивал.
— Я те, собаку, запру в гнилушку — и не выскочишь. Матрену позовешь — и та никоим образом не вытащит, хоть сто вервей иностранных подай.
Бахвалится старик, а прочим любо. Играющих обступали женщины, мужчины и дети.
— Не застуй! не застуй! — ворчит старик: — при свете-то ему стыднее в гнилушку попасть.
Все смеются.
Если противник его попадается в гнилушку, старик хохочет во все горло: