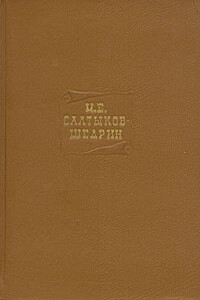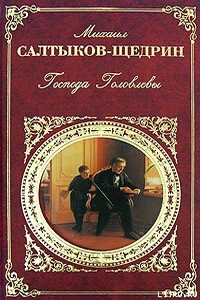Но если терпеть нельзя, то еще менее стоит терпеть. Здесь расчет простой: какой результат терпения? Кто будет так смел, чтоб удостоверить, что результат не заключается единственно в самом терпении, что здесь последнее не служит в одно и то же время и средством и целию? Спрашивается, сколько тысячелетий живет человечество и чего оно добилось с помощью терпения? Добилось того, что ему и доднесь говорят: терпи! Но не добилось ли, по крайней мере, хоть того, чтоб ему разрешили <вопрос>, когда конец этому терпению? Нет, и на это очень простой ответ: потерпи, и узнаешь, как долго остается еще терпеть! Просто можно подумать, что жизнь есть непрерывный и безвыходный каламбур.
Таким образом, совет терпеть оказывается даже несколько обидным. В терпенье, как в давно не кованном жернове, не измалывается, но изминается жизнь человечества, и в результате получается все та же жизнь, только искалеченная и изорванная. Сколько великих дел мог бы явить человеческий ум, если б не был скован более нежели странною надеждой, что все на свете сделается само собою? Скольких великих явлений могла бы быть свидетельницей история, если б она не была сдерживаема в своем движении нахальством одних и наивною доверчивостью других?
История сама берет на себя труд отвечать на эти вопросы. Когда цикл явлений истощается, когда содержание жизни беднеет, история гневно протестует против всех увещаний. Подобно горячей лаве проходит она по рядам измельчавшего, изверившегося и исстрадавшегося человечества, захлестывая на пути своем и правого и виноватого. И люди, и призраки поглощаются мгновенно, оставляя вместо себя голое поле. Это голое поле представляет истории прекрасный случай проложить для себя новое, и притом более удобное ложе.
Можно ли предупредить подобные гневные движения истории, можно ли, по крайней мере, приготовиться к ним? Вопросы эти разрешить мудрено, потому что, если б было можно, то, само собой разумеется, не было бы недостатка ни в предупреждениях, ни в приготовлениях. Но во всяком случае, предупреждать и должно, и совершенно естественно. Подобно тому как отдельный человек не называется добровольно на смерть, и человечество, застигнутое врасплох в данную минуту, не имеет права отказаться от существования. Оно может быть вынуждено к тому, но покуда наступит минута горькой необходимости, борьба с нею и естественна, и вполне законна. Вот где причина, заставившая меня сказать выше, что добровольное и полюбовное свержение старых идолов с их пьедесталов — дело не только не угрожающее обществу, но, напротив того, упрочивающее его будущее.
Эта же самая причина заставила меня взяться за перо. Говорю откровенно, читатель нередко будет иметь случай сетовать на меня; ибо нередко я буду беседовать не с тою ясностью, с какою желал бы и какая, в сущности, необходима в таком деле. Я знаю это, но вместе с тем знаю и то, что имею дело с явлениями и вещами, прикосновение к которым требует величайшей осмотрительности. Тут идет речь совсем не об трусости, но именно о желании достичь какого-нибудь результата. Что путного будет, если я стану называть вещи по именам? — спрашиваю я себя и, взвесив все доводы pro и contra, прихожу к заключению, что и выгоднее и плодотворнее действовать без излишней запальчивости.
В минуты всеобщего переполоха и эпидемической нравственной перепутанности общество выказывает особенную щекотливость. Потому ли, что оно и без того чувствует себя кругом виноватым, или потому, что организм его уже слишком покрыт язвами, — как бы то ни было, но оно положительно не допускает, чтобы в эти язвы, и без того растравленные, запускали любознательный скальпель. «Я знаю, что гнию», — говорит оно с каким-то дико-горделивым самодовольством — ну, и гниет себе понемножку.
Ввиду такой чувствительности возможно ли оставаться жестоким?
Оканчивая первое письмо мое, я намеревался прямо приступить к тому, что мы называем обыденною, будничною жизнию. Однако, перечитав написанное мною, я почувствовал, что там есть много недосказанного, что взгляд на принципы, которыми руководится жизнь человечества, недостаточно выяснен, что, наконец, могут обвинить этот взгляд в бесцельности, в какой-то сухой безотрадности, в том, наконец, что очень образно формулируется словом «озорничанье».