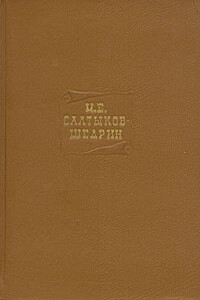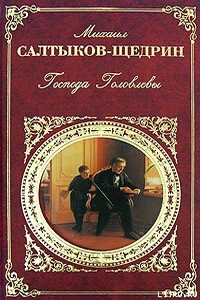Стр. 219…кажется, чего-чего не говорили и не писали о панурговом стаде… — «Антинигилистический» роман Вс. Крестовского «Панургово стадо» вышел в 1869 г.
…все у нас пусто, сухо, голо… прошедшее Польши в пурпуре и злате… — Имеются в виду следующие слова Спасовича, поляка по национальности: «Это прошлое и возникает перед его глазами в пурпуре и злате, в дивном величии, а он кидается в это национальное прошлое с тем, чтобы осуществить посредством того свои демократические мечтания. Вот каким способом делается он революционером. Другое дело русский юноша. Прошлое его не богато, что ни говори славянофильство, настоящее сухо, бедно, голо, как степь раскатистая, в которой можно разгуляться, но не на чем остановиться» («Правительственный вестник», № 165, стр. 5).
ПЕРВАЯ РУССКАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ВЫСТАВКА
Впервые — ОЗ, 1871, № 12, отд. «Современное обозрение», стр. 268–276 (вып. в свет — 17 декабря). Подпись M. M. Авторство раскрыто в «Указателе к «Отечественным запискам» за 1868–1877 гг.» (ОЗ, 1878, № 8, приложение, стр. XVII; см. также отд. изд.).
Выставка Товарищества передвижных художественных выставок, открывшаяся в залах Академии художеств 29 ноября 1871 г., ознаменовала собой начало деятельности Товарищества, устав которого был утвержден еще 2 ноября 1870 г.
Первая выставка свободной ассоциации художников-реалистов, объединившихся в целях борьбы с господствующим официальным искусством Академии, вызвала живой отклик в печати. Почти все столичные газеты и журналы поместили на нее рецензии. Прогрессивная печать отмечала свежесть, новизну и многообразие сюжетов картин, правдивое и живое отображение действительности в полотнах художников-передвижников. С большим сочувствием была принята и сама идея передвижения художественных произведений по России, что должно было оживить затхлую атмосферу провинции и дать искусству новые средства его демократизации.
Внимание Салтыкова к первой выставке передвижников было, очевидно, вызвано ее большим общественным резонансом. Не случайно писатель особо оговаривает свою некомпетентность в специальных вопросах живописи и сосредоточивает внимание на принципиальных сторонах деятельности Товарищества в целом и на тех произведениях, которые наиболее горячо обсуждались в печати и, несомненно, в литературно-художественных кружках Петербурга. Вся статья пронизана скрытой полемикой.
Писатель подходит к деятельности Товарищества как к факту, имеющему важное общественное значение. Самая организация нового художественного объединения, противостоящего консервативному искусству Академии художеств, находит у него горячую поддержку. Салтыков одобряет «Товарищество за то, что оно при первом своем появлении на суд общества избавило публику от крашенины», утомляющей взор на выставках Академии, и противопоставило ей работы своих членов, производящие «самое приятное впечатление».
Однако перспективы деятельности Товарищества вызывают у Салтыкова серьезные опасения. Он смотрит на будущее передвижничества более трезво, нежели В. В. Стасов, с которым, не называя его имени, полемизирует.
Восторженно приветствуя выставку и давая высокую оценку картинам передвижников, Стасов безоговорочно признал и самый принцип организации Товарищества («Передвижная выставка 1871 года». — «СПб. ведомости», 1871, №№ 333 и 338). В передвижении художественных произведений по России он видел реальную возможность осуществить «пользу не только русской публике, но и русскому народу». Одобрил Стасов и пункт устава Товарищества, гласивший, что «членами Товарищества могут быть только художники, не оставившие занятий» искусством.
Салтыков, напротив, требует ясности в самом уставе относительно идейных целей Общества. Пункт устава, только что процитированный, по мнению писателя, не ограждает Общество от вторжения в него художников академического толка, «от наплыва Моисеев, извлекающих из камня воду, Янов Усьмовичей и т. п. произведений…».
Салтыков поддерживает Товарищество в его стремлении сделать «произведения русского искусства, доселе замкнутые в одном Петербурге, в стенах Академии художеств, или погребенные в галереях или музеях частных лиц <…> доступными для всех обывателей Российской империи». Однако он ставит под сомнение, что, «полагая начало эстетическому воспитанию обывателей, художники достигнут хороших результатов». Писатель видит противоречие в самом замысле: сделать искусство достоянием народа не столь просто, как это, в частности, казалось энтузиасту Стасову. Для этого отнюдь не достаточно возить выставку по городам русского захолустья. Салтыков отвергает просветительские иллюзии тех, кто, подобно Стасову, возлагал на идею передвижения художественных полотен особые упования. Высмеивая беспочвенные надежды на преображение русской провинции с помощью картин передвижников, писатель-сатирик создает гротескные зарисовки: неутешно плачущего цензора, которого полотно Мясоедова побудило принести публичное покаяние; помещика, при виде «Погорельцев» Прянишникова вынимающего из кармана пятак, чтобы подать нищему милостыню; мирового судью, которого картина Ге заставила «отчетливо понимать, что́ значит суд скорый, милостивый и правый», крестьянина, радостно признавшего в «Голове мужика» Крамского самого себя, и т. п.