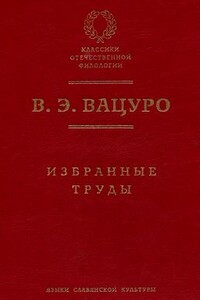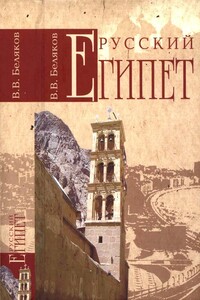Статьи разных лет - страница 12
«Побежденная трудность» — не единственное речение, перешедшее к Пушкину через Карамзина. Ту же судьбу имели афоризм Бомарше «Il nе faut pas que l’honnête homme mérite d’être pendu» («He должно, чтобы честный человек заслуживал повешения»), взятый в качестве эпиграфа к статье «Александр Радищев», и слова «подвиг честного человека», примененные Пушкиным к самому Карамзину[71]. Кс. Полевой вспоминал, что Пушкин «любил повторять изречения или апофегмы Карамзина»[72].
Искусство беседы, которым Пушкин владел с блеском, питалось разными истоками, и кружок Карамзина, по-видимому, был одним из них. Во всяком случае мы знаем теперь, что некоторые изречения прославленных французских остроумцев XVIII столетия, воспринятые Пушкиным, получили первоначальное хождение именно в этой среде, давшей, кстати сказать, таких известных в свое время острословов, как Вяземский и Д. Н. Блудов.
3. Пушкинская поговорка у Лермонтова
В лермонтовском «Журналисте, читателе и писателе» в монологе Журналиста есть строки:
Э. Г. Герштейн впервые обратила внимание на то, что для речевой характеристики Журналиста Лермонтов воспользовался ходовым выражением, употребительным в кружке Карамзиных. В августе 1840 г. Вяземский вспоминал его как «старую прибаутку». «Войдите в мое положение! — голос значительно возвысить на слоге „же“. Эта фраза с этим ударением была в большой моде прошлым летом у Карамзиных и пущена в ход, кажется, Лермонтовым»[73].
Между тем есть и иное свидетельство о происхождении этого выражения, 5 мая 1846 г. Плетнев писал Я. К. Гроту: «Приготовься видеть в № 6 „Современника“ одни учено-сериозные статьи без малейшей примеси легкого чтения. Я знаю, что ты будешь бранить меня. Но войди в мое положение (как любил в таких случаях говаривать покойный Пушкин)…»[74].
Плетнев указывает на свой источник более определенно, чем Вяземский, и по-видимому с полным основанием. Вряд ли поговорка попала к нему от Карамзиных, с которыми он общался редко и никогда близок не был. Пушкина же, особенно в последние годы жизни поэта, он знал домашним образом и был связан с ним теснее, нежели Вяземский; в памяти его запечатлелись речения, привычки, характерные мелочи и особенности повседневного поведения его покойного друга, — о них он вспоминал часто в письмах к тому же Гроту. Вероятнее всего, поговорка, приведенная им, была в ходу у Пушкина и Карамзиных, откуда она уже и попала к Лермонтову. Вяземский же приписал ее Лермонтову по совершенно понятной аберрации: к августу 1840 г. он уже знал «Журналиста, читателя и писателя», опубликованного в апрельском номере «Отечественных записок» за 1840 г.
Пушкинское речение совершенно естественно входит в стихотворение Лермонтова, ближайшим образом связанное с литературно-полемической позицией Пушкина и его группы и включающее целый ряд реминисценций из стихов и полемических статей 1830–1831 гг. Эта особенность «Журналиста, читателя и писателя» достаточно хорошо известна. На нем лежит и отпечаток литературно-бытовой среды, в которой возникло стихотворение. Пушкинская поговорка в нем, однако, является чем-то большим, нежели простая реминисценция: она, конечно, рассчитана на узнавание и на определенное интонирование, как об этом пишет Вяземский. По-видимому, она читалась с жалобно-просительной интонацией, с особым эмфатическим подчеркиванием фразы, и тем самым получила дополнительные смысловые акценты.
4. К истории пушкинского экспромта