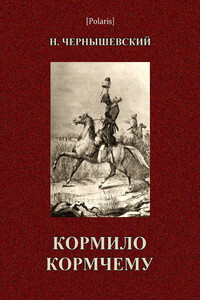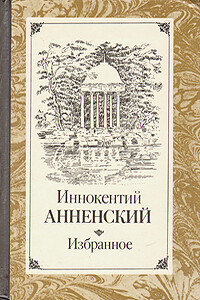Статьи о русской литературе - страница 212
Новая эта красота происходит не оттого, чтобы солнце делало что-нибудь новое из глетчера, – оно ведь его и растопить не может, – а только оттого, что глетчер, оставаясь неизменно самим собою, делает из солнечных лучей, различным образом отражая и преломляя их своею поверхностью. Такова же и особенная прелесть лермонтовских любовных стихов, – прелесть оптическая, прелесть миража. Заметьте, что в этих произведениях почти никогда не выражается любовь в настоящем, в тот момент, когда она захватывает душу и наполняет жизнь. У Лермонтова она уже прошла, не владеет сердцем, и мы видим только чарующую игру воспоминания и воображения.
Или другое:
И там, где глагол любить является в настоящем времени, он служит только поводом для меланхолической рефлексии:
В одном чудесном стихотворении воображение поэта, обыкновенно занятое памятью прошлого, играет с возможностью будущей любви:
Любовь уже потому не могла быть для Лермонтова началом жизненного наполнения, что он любил главным образом лишь собственное любовное состояние, и понятно, что такая формальная любовь могла быть лишь рамкой, а не содержанием его я, которое оставалось одиноким и пустым. Это одиночество и пустынность напряженной и в себе сосредоточенной личной силы, не находящей себе достаточного удовлетворяющего ее применения, есть первая основная черта лермонтовской поэзии и жизни.
Вторая, тоже от западных его родичей унаследованная черта, – быть может, видоизмененный остаток шотландского двойного зрения – способность переступать в чувстве и созерцании через границы обычного порядка явлений и схватывать запредельную сторону жизни и жизненных отношений.
Эта вторая особенность Лермонтова была во внутренней зависимости от первой. Необычная сосредоточенность Лермонтова в себе давала его взгляду остроту и силу, чтобы иногда разрывать сеть внешней причинности и проникать в другую, более глубокую связь существующего, – это была способность пророческая; и если Лермонтов не был ни пророком в настоящем смысле этого слова, ни таким прорицателем, как его предок Фома Рифмач, то лишь потому, что он не давал этой своей способности никакого объективного применения. Он не был