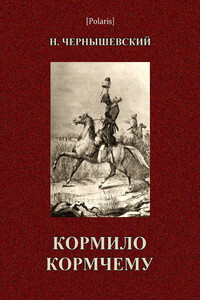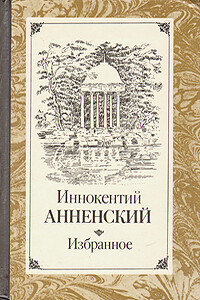«Декаденты – тонкие люди. Тонкие и острые, как иглы, они глубоко вонзаются в неизвестное». Это говорит у г. Горького один из героев рассказа «Ошибка» (II, 350). Я до сих пор не касался этого странного рассказа, стоящего особняком в двух томиках г. Горького, но ясно указывающего, мне кажется, на те опасности, которые грозят автору на его дальнейшем литературном пути. Декаденты (конечно, искренние, потому что есть и просто ломающиеся, ради интересной позы) желали бы быть подобны тонким и острым иглам, глубоко вонзающимся в неизвестное, но в действительности закутывают туманом и извращают вычурностью часто даже вполне известное. И вот этот-то туман и эта вычурность вместо искомой тончайшей правды грозит и г. Горькому. Он может считать себя неответственным за приведенную хвалу декадентам, потому что высказывает ее психически больной Кирилл Иванович Ярославцев. Но вместе с тем как Ярославцеву, так и другому действующему лицу, тоже психически больному, Марку Даниловичу Кравцову, приписаны мысли и настроения, общие всем босякам г. Горького (хотя и Ярославцев, и Кравцов не босяки) и, очевидно, очень занимающие автора. Тут и «человек, к жизни не причастный и от нее отторгнутый», и жажда подвига, и афоризм: «жалость и жестокость! да ведь это два совершенно однородные слова»; и желание «вывести вон из жизни всех тех людей, которые, несмотря на свои пятна, все-таки самые светлые люди жизни», и предложение «выйти за границы жизни в песчаные необитаемые пустыни», и т. д. Сомневаясь, чтобы специалист-психиатр нашел картины болезни Ярославцева и Кравцова соответствующими действительности, думаю, что это совершенно произвольная психиатрия. А вместе с тем не выясняются и так занимающие г. Горького мысли и настроения, потому что двое сумасшедших, конечно, могут только запутать дело.
Остановимся хоть на одном пункте. «Жалость и жестокость – два совершенно однородные слова», и Ярославцеву «удивительно, как это до сей поры никто не замечал, что это синонимы по смыслу». Это одна из вариаций на тему о границах наслаждения и страдания. Но вот как иллюстрирует свой афоризм Ярославцев. Однажды в деревне он был свидетелем следующей сцены: телка упала в овраг и сломала себе передние ноги; собралась толпа; она «стояла вокруг телки и больше с любопытством, чем с состраданием, наблюдала за ее движениями и слушала ее стоны»; подошел кузнец Матвей и, обругав «дурачьем» «любующихся» на страдания телки, ударил ее по голове железной полосой и тем прекратил страдания. Ярославцев заключает: «Вот он как жалел, этот Матвей! Может быть, он так же бы поступил и с человеком безнадежно больным. Морально это или не морально? Во всяком случае, это сильно, прежде всего сильно, и потому оно морально и хорошо. Я люблю хорошее, и это морально; я слаб и, значит, я хорош! Вот как!» Я уже не говорю о полной бессмыслице последних слов, тут даже и разобрать ничего нельзя. Но возьмем самый факт, иллюстрирующий положение о тождественности жалости и жестокости. Ясно, что жестока была толпа, если она «любовалась» зрелищем страданий телки, и тут можно подозревать загадочную смесь жестокости и сострадания, но кузнец Матвей, очевидно, не годится для иллюстрации тождества жалости и жестокости. Жестокость причиняет страдание или любуется на него, а кузнец обругал любующихся и прекратил страдание. Нет, значит, никакого повода делать из этого простого и ясного факта что-то загадочное, таинственное, для проникновения в которое требуются тонкие и острые иглы декадентства.
Интереснее изречение Ярославцева: «это сильно, прежде всего сильно, и потому оно морально и хорошо». Это говорит психически больной человек, и, следовательно, опять-таки автор за эти слова не ответствен. Но то, что поднимает над окружающими всех босяков г. Горького – очищенных и неочищенных, реальных и легендарных или символических, – есть сила, и именно «прежде всего сила». Куда она направится – на величайший ли подвиг самоотвержения или на величайшее, даже фантастическое злодейство, – это вопрос второй и даже, может быть, безразличный: «это сильно, прежде всего сильно, и потому оно морально и хорошо». Так склонны смотреть все босяки г. Горького, стирая общепризнанные, по крайней мере на словах, границы между добром и злом и требуя, устами философствующего отставного ротмистра Аристида Кувалды, «новых» критериев морали. Смелость и откровенность, с которыми отверженцы ставят и даже практически разрешают этот вопрос, импонируют окружающим, а босяков очищенных, легендарных даже окружают блеском поэтического ореола. Очевидно, однако, что, признав вместе с ними «прежде всего силу» верховным критерием морали, мы оказались бы во власти целой сети недоразумений, из которых остановимся на одном. Герои г. Горького «жадны жить», ищут «возбуждения всей души». Формы, в которых проявляется эта жадность, обусловливаются обстоятельствами времени и места; если бы, например, жизнь предлагала героям г. Горького не «ямы», а достаточное «возбуждение всей души» на месте, то им незачем было бы бродяжить. Как бы мы ни относились, однако, ко всем этим частностям, нельзя не остановиться на том, что из разнообразных отношений к людям, какие могут «возбуждать душу», они выше всего ставят мотивы властного, повелительного воздействия, которое способны доводить до жестокости и мучительства, и, следовательно, роют другим возмутительнейшие «ямы»; а нет почему-нибудь поприща для такого воздействия – так и совсем не надо людей, можно и в одиночку прожить, или же – смерть (вместе со всем человечеством, как в мечтах Кувалды и Орлова, или вместе с непокоряющимся субъектом, как в случае Зобара и Радды). «Жадность жить», требующая «возбуждения всей души», есть явление законное и желательное, действительно способное образовать собою психологический фундамент высокой морали. Жалки люди, не знающие этой жадности и соглашающиеся быть инструментами с оборванными струнами; но если и признать, что Wille zur Macht – жажда власти, превосходства есть необходимая струна человеческой души, то все же она лишь одна из струн и при «возбуждении всей души» ее звуки должны гармонически умеряться иными звуками. Раз мы это признаем, мы тотчас увидим несостоятельность тезиса: «Это прежде всего сильно и потому морально и хорошо»; увидим и разницу между действиями Данко, с одной стороны, и Ларры – с другой, между мечтой Орлова спасти Россию от холеры и его же мечтой перебить всех жидов или раздробить землю в пыль. Пусть Данко руководился жаждою первенства и власти, когда шел впереди своих людей из лесу, освещая им путь своим горящим сердцем, но он вместе с тем сострадал этим людям, переживал их жизнь; следовательно, в его душе звенела по крайней мере одна лишняя струна по сравнению с Ларрой, который оказался не способным переживать чужую жизнь и только желал «быть первым». Пусть честолюбие было одним из мотивов Орлова, когда он хотел насмерть схватиться с холерой, но он вместе с тем переживал жизнь виденных им в холерной больнице страдальцев; следовательно, его жизнь была в этот момент полнее, богаче, чем тогда, когда он, именно от пустоты жизни, мечтал об избиении жидов и раздроблении земли. Разница, кажется, достаточно ясная для того, чтобы мы могли, именно с точки зрения «жадности», отвергнуть положение: «это прежде всего сильно, а потому морально и хорошо». «Учитель» в «Бывших людях» не забыл римской истории и знает, что «гольтепа создала Рим». Согласился ли бы он с приведенным положением, если бы его ему иллюстрировали так: Нерон сжег Рим, распинал и отдавал на съедение зверям разную «гольтепу», не отказывая себе, впрочем, в удовольствии казнить и знатных, и богатых, – это было сильно, а потому морально и хорошо; Спартак сплотил разную «гольтепу» и три года держал миродержавный Рим в страхе – это было сильно, а потому морально и хорошо. Боюсь, что, по пристрастию к «гольтепе», довольно, впрочем, в его положении естественному, «учитель» нашел бы, что никакие декадентские иглы, как бы они ни были остры и тонки, не сошьют эти два явления в однородное целое.