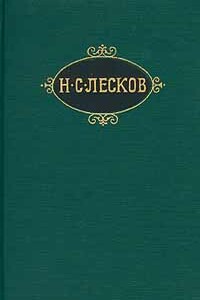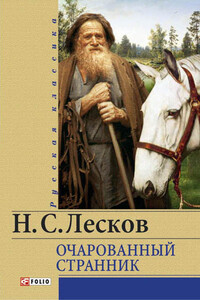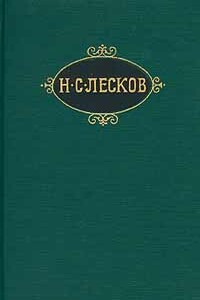— Стихотворствую, — говорит он ей, — и потому не скучаю — даже и без вас.
— Очень, должно полагать, интересно сочиняете! Покажите-ка что-нибудь: точно ли так интересно (попросила Анджелика, и попросила вот именно этими самыми словами, которые мы приводим с скрупулезнейшею точностью).
Но эти звучные рифмы Авенариуса были русские, и потому он не показал их Анджелике, а написал ей итальянские стихи, которые и хотел было изорвать, “да жаль стало: слишком естественно чувство сказалось”. Управляющая г. Авенариусом сила особенной благовоспитанности не позволяет ему манерничать и, похвалившись хорошими стихами, скрыть их от общества в папках своего интересного портфеля. Он прилагает для русских читателей хановского журнала перевод этих стихов на русский язык, но оригинала, к сожалению, не вписал, хотя вписывать стихи и свои и чужие г. Авенариус вообще первый в свете охотник. В переводе же его звучные итальянские стихи вышли, как назло, очень дурны. Чувство в них слишком естественно сказывается такими строфами:
Мечтательно-грустно ли бровки ты сдвинешь:
Невинно вперишь в меня огненный взгляд
и после со смехом головку закинешь
Надменно-грацьезно назад… etc.
Таких звучных рифм г. Авенариусом вписано целых восемь куплетов, вообще очень ровненьких по всесторонним своим достоинствам; но по-итальянски они все-таки, верно, еще гораздо сего превосходнейше. Есть, правда, у г. Авенариуса враги, без которых трудно прожить замечательному человеку, и эти враги, может быть готовые посягать и на его жизнь, посягают прежде на его литературную славу: они сомневаются, что г. Авенариус умеет писать итальянские стихи. Но какие же, однако, основания у этих людей сомневаться в этом, когда г. Авенариус смело и громко говорит, что он писал эти стихи по-итальянски и потом перевел их для хановского журнала?
Стишками своими, сочинение которых г. Авенариусом непременно надо допустить, как будто оно в самом деле происходило, этот красивый писатель так зажег свою девочку, что она даже пошла с ним за это гулять в горы. На этой прогулке они сначала увидели, как бедный художник Сторачи сидел на подмостках какого-то дома и красил стену. Это их посмешило; но зато потом они попались франту Сантакроче, который, в припадке злобной итальянской ревности, забыл о всех особенностях высокого положения г. Авенариуса и грубо, как настоящий макаронник, осмеял серенькое пальтишко нашего Чурилы. Дело это, однако, окончилось без особенных последствий, потому что Анджелика защитила Чурилу и рассудительно сказала ему, что “всякий одевается по средствам”. Сантакроче так гриб и съел, а в любви русского писателя с итальянкой начинается новая фаза. У красавца Авенариуса заходит с его девочкой разговор: может ли надеяться “северянин” завладеть сердцем итальянки?
“Как человеку не взобраться вверх по этому водопаду, — надменно промолвила красавица, — так иностранцу не завладеть сердцем итальянки”.
Водопад, на который указала итальянка, был черт знает какой страшный — совсем неприступный. “Под острым углом сходились тут две неприступные голые стены, и по ним ниспадал водопад”.
Но что же может удержать писателя Авенариуса?
“В два прыжка (говорит он в своих бесценных признаниях) я был у подножия водопада и лез уж вверх по его течению!”
“Безумец! Куда вы?” — не на шутку перепугалась девушка.
“За сердцем итальянки”, — отвечал коротко Авенариус и “при известной ловкости”, со “смертельною опасностью”, “не хуже дикой кошки или ползучего растения”, взлез до вершины обрыва, который “восходил до самых небес”. Были там по этому пути и ущелья, сквозь которые другому бы ни за что не пронырнуть; “но я молод, тонок в талии, в движениях эластичен (рассказывает о себе наш Чурила), и протиснулся”. Дело он сделал, по его описанию, сверхъестественной трудности, и вы действительно ничего подобного не найдете даже в описании опасностей, которым подвергался Тиндаль, исследуя альпийские ледники. Были моменты в этом подвиге, когда даже сам неустрашимый Авенариус отчаивался в своем спасении и, вися над бездною, спрашивал: “Господи! ужели так и покончить? свеж, здоров, полон светлых надежд…”