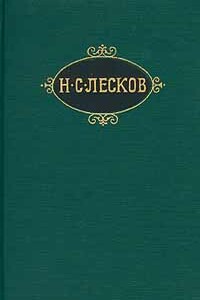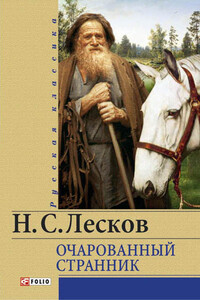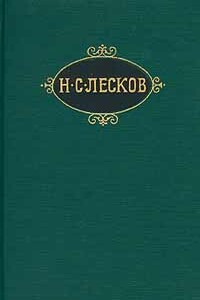И вдруг такое течение обстоятельств: час спустя сюда же входит Достоевский. Он был мрачен и нарочито угрюм, и даже скупо награждал вниманием всегда заискивавшего перед ним Маркевича. В общие разговоры, какие тут шли, он долго не вмешивался. Беседу более всех оживляла упомянутая выше дама г-жа К<ушеле>ва, состоящая в фамильном родстве с супругою г-на Вогюэ (русскою, урожденною Анненковою). Говорили о каких-то своих и чужих порядках, причем г-жа К<ушеле>ва, делая сравнения русской и европейской жизни, обмолвилась в том же роде, в каком говорила Засецкая, а именно, что она решительно не понимает, чем русский человек лучше всякого другого и почему для него все нужно иное?
Достоевский в нее воззрился, раскрыл уста и произнес:
— Если не знаете, то подите к вашему куфельному мужику, и он вас научит.
Маркович, которому эта, живая дама часто досаждала противоречиями, встрепенулся и, раскладывая пасьянс, подсказал:
— Да, вот прекрасно… ступайте к куфельному мужику.
— Чему же он меня научит?
— Он? Он вас научит всему! — пояснил Достоевский.
— Чему? чему это всему? — добивалась дама.
— Жить и умереть, — молвил Достоевский.
— Жить и умереть, — подтвердил Маркевич, продолжая снимать пасьянс.
— Это все-таки очень обще… я ничего не могу уловить в этом… Вы скажите яснее: чему он меня будет учить?
Достоевский замолчал и стал смотреть в сторону.
Выходило немножко грубовато и неловко.
Собеседницу поддержала ее племянница, г-жа У<шако>ва: она сказала, что кухонный мужик — “это, конечно, очень ново и любопытно, но что, к сожалению, действительно очень трудно себе представить: чему кухонный мужик будет учить образованного человека”.
В утомленных глазах Достоевского сверкнул тусклый огонь, чрезвычайно напоминавший взгляд известного польского мистика Товианского; он нетерпеливо ответил девушке:
— Хотите узнать?
— Очень хочу.
— Так идите к нему сейчас, и вы узнаете, чему он вас научит!
И, произнося это, Достоевский указывал глазами на дверь, через которую предположительно можно было достичь из гостиной через внутренние комнаты на кухню.
Но светская девушка спокойно поблагодарила писателя за совет, и сама посоветовала ему первому пойти туда и поучиться на первый раз вежливости.
Достоевский опять обиделся, замолчал и скоро удалился, а оставшиеся после его ухода еще поговорили об этой выходке. Одни находили ее странной, другие даже неуместной, но вообще все более шутили над указанным “новым профессором”, хотя, впрочем, находили, что “это ужасно, если уже до того дошло дело, что русским образованным людям ничего более не остается, как идти учиться на кухню”.
— Образованные люди должны идти учиться к кухонному мужику!.. Он всех умнее!.. Он всему научит!.. Что за вздор! Чему же всему он научит?
Ни Достоевский, ни Маркевич никогда этого не разъяснили, хотя Маркевичу, в рассуждении его собственного спокойствия, этот кухонный мужик не дешево стоил. Достоевского не все решались трогать, да он и не часто бывал в великосветских домах, но зато к Маркевичу, который всегда отличался недостатком собственных мнений и, по выражению одного из его светских приятелей, “всегда ехал у кого-нибудь в тороках”, дамы долго и неустанно приступали с требованием разъяснить: “чему может научить куфельный мужик”?
Маркевич не давал ответа и, вздыхая значительно, клал свой пасьянс.
Он, надо думать, не знал в точности, чему может научить куфельный мужик, да, вероятно, не имел отваги и расспросить об этом у Достоевского.
Во всяком случае, оба они унесли тайну учительного значения куфельного мужика с собою в могилу, а светские люди остались в недоумении и, отчасти, в некотором страхе. И вдруг кого-то осенила мысль, что куфельный мужик — это “указание предосторожности”. Сделавшему это открытие дальше уже и говорить не дали.
— Не нужно больше… Нечего и рассказывать… — это предостережение… Как, однако, хитер и как загадочен ум Достоевского!.. Конечно, говоря о куфельном мужике, он нас предостерегал!
Но являлись люди спокойного ума и уверяли, что его в комнаты не пустят, — он все будет на кухне.
И как раз — вдруг все случилось иначе! Чего не допускали и чего не опасались, это-то и случилось. Чем Ф. М. Достоевский, как чуждый пришлец в большом свете, только пугал, то граф Л. Н. Толстой сделал. Как свой человек, зная все входы и выходы в доме, он пропустил и ввел кухонного мужика в апартаменты. Что люди, пользуясь силами жизни и растрачивая их на свои карьерные заботы, отметали, то предсмертные муки заставили одного из них принять к себе. Иван Ильич, оставленный всеми и сделавшийся в тягость даже самым близким родным, нашел истинные, в простонародном духе, сострадание и помощь в одном своем куфельном мужике. Таким образом, пришел этот предвозвещенный Достоевским мужик, не принеся с собой ни топора, ни ножа, — он принес одно простое доброе сердце, приученное знать, что в горе людям “послужить надо”. Барин сам попросил мужика прийти к нему, и вот перед отверстым гробом куфельный мужик научил барина ценить истинное участие к человеку страждущему, — участие, перед которым так ничтожно и противно все, что приносят друг к другу в подобные минуты люди светские.