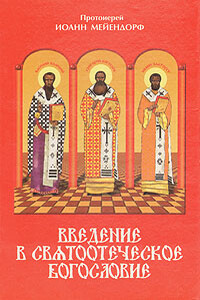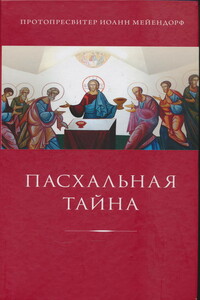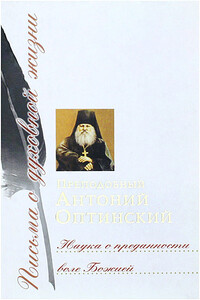Статьи - страница 51
Было бы несправедливо не упомянуть здесь, наряду с этими двумя официальными дипломатическими письмами, злобный и бездарный пасквиль, составленный около 905—906 гг. в Констангинополе и неправильно приписываемый перу Арефы, епископа Кесарийского, известного ученого и ученика Фотия. Пасквиль состоит в основном из многочисленных шуток в дурном вкусе по поводу мусульманского представления о рае. Как недавно продемонстрировал проф. Р. Дж. X. Дженкинс, настоящий автор памфлета — некий Лев Хиросфакт, которого Арефа высмеивает в одном из своих диалогов. Для нас интерес к этому документу обусловлен тем обстоятельством, что византийская антиисламская полемика могла одновременно вестись на очень разных уровнях и что дипломатическая вежливость и интеллектуальное понимание на уровне правителей не препятствовали клевете и окарикатуриванию на ином уровне.
4.
В начале VIII в. преп. Иоанн Дамаскин с ужасом описывает ересь, появившуюся «во времена Ираклия»: «обманчивое заблуждение исмаильтян, предвестие Антихриста.» Шесть веков спустя Иоанн Каятакузин в почти таких же словах говорит о той же катастрофе, «которая случилась во время правления Ираклия». Между двумя религиями была пропасть, через которую нельзя было перекинуть мост ни пышной полемикой, ни диалектическими аргументами, ни дипломатическими усилиями. Непреодолимое на духовном и богословском уровне, это противостояние с самого начала приняло также форму грандиозной борьбы за господство в мире, так как обе религии претендовали на вселенскую миссию и обе империи — на мировое главенство. По самому своему религиозному замыслу ислам не мог провести различие между «политическим» и «духовным», но и Византия никогда не желала проводить различие между универсальностью Евангелия и имперской универсальностью христианского Рима. Это осложняло взаимопонимание и приводило обе стороны к тому, чтобы в конце концов рассматривать священную войну как нормальный вид отношений между двумя империями.
Вполне закономерен, тем не менее, вопрос о том, какова была ситуация на обыденном уровне. Каким было отношение простых христиан к мусульманам а их повседневных связях как на оккупированных землях, так и в пределах империи, где встречалось множество арабских торговцев, дипломатов и заключенных? Похоже, лучший источник для ответа на этот вопрос — агиография. Мои беглые наблюдения в этой области показали, однако, что и здесь решение не может быть простым. С одной стороны, у нас есть большое число житий мучеников с описанием избиений, совершенных мусульманами — монахов из монастыря св. Саввы, шестидесяти греческих паломников в Иерусалиме в 724 г., чья смерть оборвала семилетнее перемирие между Львом III и халифатом, сорока двух мучеников аморийских, захваченных в плен во время правления Феофила, многочисленных христиан, которые, не выдержав давления, приняли ислам, а затем, покаявшись вернулись в Церковь, как это сделали два святых в VIII в. — Вакх Молодой и Илия Новый. Неудивительно, что в обыденном представлении всякий мусульманин был ужасным и отвратительным существом; в житии св. Андрея, Христа ради юродивого, сам сатана является в облике арабского купца. Более того, арабы, занимавшие определенное место в византийском государственном управлении, имели чрезвычайно плохую репутацию в глазах народа; так обстояло дело с «сарацинами», которые, согласно житию свв. Феодора и Феофана Грантов, служили при императоре Феофиле, и с Самоной, приближенным Льва VI. В оккупированных областях христиане зачастую жили в закрытых гетто, избегая любого общения с мусульманскими властителями: когда св. Стефан, монах из монастыря св. Саввы и человек, пользовавшийся большим уважением со стороны как христиан, так и мусульман, узнал, что Илия, иерусалимский патриарх, арестован, он отказался пойти и заступиться за него, потому что знал, что это будет бесполезно.
Время от времени в житиях святых воспроизводятся споры между христианами и мусульманами, и в этих случаях в них используется полемическая литература, о которой говорилось выше: и рассказе Эводим о страдании сорока двух мучеников аморийских проблема предопределения упоминается как основное различие между двумя религиями. Среди подобных документов богатейшим по содержанию и наиболее оригинальным является рассказ об имевшей место ок. 850 г. дискуссии, в которую оказался вовлечен Константин — посланник императора в Самарре и будущий апостол славян. Этот рассказ был сохранен в славянском житии Константина. Позиция Константина «Философа» — всецело апологетическая: он защищает христиан от обвинения, упомянутого выше, — что они являются «раскалывателями Бога», он цитирует Коран (сура XIX, 17) в поддержку христианской доктрины рождения от Девы и так же, как Абу–Курра, опровергает утверждение мусульман, что разделение христианства на различные ереси и секты — доказательство его непоследовательности. Он выдвигает встречное обвинение мусульман в недостаточной моральной строгости, что являлось обычным христианским возражением на претензию ислама быть Богоогкровенной религией. В заключение он выражает классическое византийское мнение, что «империя Ро–меев» — единственная, благословленная Богом. Он находит даже библейское основание для этого взгляда: дав Своим ученикам заповедь платить положенное императору и заплатив налог за Себя и остальных (Мф 17:24–27; 22:19—21), Иисус имел в виду только Римскую империю, а не любое государство; поэтому христиане не обязаны признавать власть халифа. Арабам нечем гордиться даже в области искусств и наук, ибо они всего лишь ученики римлян. «Все искусства пришли от нас», заключает Константин.