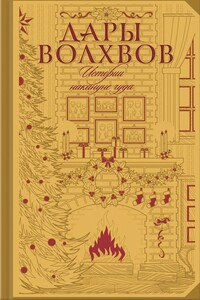Статьи - страница 33
Вопреки этому безвременному расслащенному вертеризму, занятому по передаче от немцев, XIX век взошел не розовою зарею, а заревом военных пожаров; но Русь еще дремала, русская словесность еще пережевывала Мармонтеля[276] и мадам Жанлис. Один только самобытный, неподражаемый Крылов обновлял повременно и ум и язык русский во всей их народности. Только у него были они свежи собственным румянцем, удалы собственными силами. Он первый показал нам их без пыли древности, без французской фольги, без немецкого венка из незабудок. Мужички его – природные русские мужички; зверьки его с неподкрашенною остью[277]. Счастливцы мы: Крылов и XIX век были нашими крестными отцами! Первый научил нас говорить по-русски, второй – мыслить по-европейски. Тогда Державин уже дотлевал между новыми развалинами любителей русского слова. Дмитриев молчал уже; Карамзин еще писал только свою «Историю». Один Крылов был достойным представителем словесности нашей.
Между тем Европа проживала века в немногие годы. Русь везде простирала меч свой между деспотизмом Наполеона и правами народов, которым грозил он; сражалась за них… всегда благородно. Купчиха Англия стреляла чугуном и золотом и пасквилями в великана, который обещал согнать ее с земного шара. Только Германия, улетев из житейской жизни, углубись в умозрительные тонкости, прислушивалась к гармонии сфер и подобно Архимеду не слыхала, что враги берут приступом ее священные твердыни. Англия давно имела СВОЮ огромную оригинальную поэзию, но она жила с нею посреди волн и туманов, одиноко, как отшельник, счастливый миром дивных мечтаний, в груди его совершающихся. Мир этот долго жил без отголоска в нашем мире, покуда гений Шиллера не угадал его девственной прелести и не усвоил немецкой словесности романтизма Шекспирова во всей величавой его простоте. Пред ним, за ним, рядом с ним закипела словесность, история, философия, критика новыми, смелыми, плодотворными идеями, объяснившими человечество, раздвинувшими ум человека уже не бедным опытом, как прежде, но пытливостию воображения. Тогда же блеснул и Гете, который собрал в себе ярким светилом все лучи просвещения Германии, который воплотил, олицетворил в себе Германию, мечтательную, полуземную Германию, вечно колеблющуюся между картофелем и звездами, Германию, которой половина в пыли феодализма, а другая – в облаках отвлеченностей, Германию, простодушную до смеха и ученую до слез, Германию все объемлющую, все любящую, все знающую, все, начиная с фиглярств Изидина[278] храма до замыслов Розенкрейцеров[279], от символизма Зенд-Авесты[280] до магнетизма земли.
Все, что создали гении германские для памяти, для умозрения, для воображения, совместилось в Гете. Все яркое в мире отразилось в его творениях, все… кроме чувств патриотизма, – и этим-то всего более осуществил он в себе Германию, которая вынула из человека душу и рассматривала ее отдельно от народной жизни, анатомировала законы природы без отношения их к человеку. Фауст есть фокус гения Гете, точно так же как сам он был фокусом просвещения и духа германского.
Но Германия, истощенная умственным усилием ее гениев по всем отраслям точного и прекрасного, гениев, которые каким-то чудом взошли дружными созвездиями вдруг на горизонте прошлого полустолетия, упала в дремоту и, воротясь из всемирного облета, уселась за частности, за быт запечный, нарядилась в alte deutclie Tracht