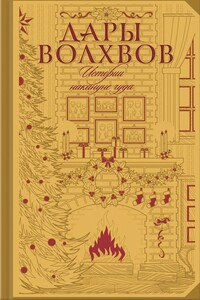Со всем тем эпоха возрождения наук и художеств не понимала таких полновесных истин и, восхищенная находкою знаменитых произведений древности, уверила себя, что они безусловный образец изящного и что, кроме их, нет изящного. Затем она принялась подражать до упаду грекам, а пуще того римлянам, которые сами передразнивали греков. Притом латинский язык был наречением веры и чрез духовных, служивших за секретарей, стал наречием прагматики; он же был и ходячею монетою всех училищ. Ученый не смел говорить иначе, как по-латыни, а писать и подавно, хоть от его вандало-римского языка Цицерон и в могиле зарылся бы вглубь сажени на три. Так было везде для ученого класса, или, яснее сказать, для педантов; но даровитые умы срывались со смычка, на который их спаривала с Аристотелем свинцовая схоластика, и пробивали новые тропы в области прекрасного. Одна Франция, имевшая столь обширное влияние на всю Европу и в особенности на словесность нашу, Франция живая, Франция вертляная, Франция, у которой всякий вкус загорается страстью, – постриглась в монахини и заживо замуровала свой ум в гробовые плиты классицизма. В то время как Италия владела уже Дантом, одним из самых творческих, оригинальных гениев земли; когда Кальдерон[238] населил испанскую сцену драмами, полными огня и простоты; когда Камоэнс выплыл на доске с разбитого корабля, держа над головою своих «Лузитан»; когда Англия, в мятеже волн и междоусобий, закалила дух Шекспира, великого Шекспира, который был сама поэзия, весь воображенье… эолическая поэзия Севера, глубокомысленное воображение Севера… в то время, говорю, Франция набивала колодки на дар Корнеля и рассыропливала Расина водою Тибра, с оржадом[239] пополам. Пускай бы еще она изображала древний мир, каков он был в самом деле, – но она не знала его, еще менее понимала.
Французы нарумяппли старушку древность красным-красно, облепили ее мушками, затянули в китовые усы, научили танцевать менуэт, приседать по смычку. Бедняжка запиналась на каждом шагу своими высокими каблучками, путалась в хвосте платья, заикалась цезурами сверх положения, была смешна до жалости, скучна как нельзя более. Но зрителей и читателей схватывали судороги восторга от маркизов Орестов, от шевалье Брютюс, от мадам Агриппины[240], лиц очень почтенных, впрочем, и весьма исторических притом, которые посменно говорили проповеди александрийскими стихами и обеими горстьми кидали пудрой, блестками и афоризмами, до того приношенными, что они не годились даже на эпиграфы. Да одних ли древних переварили французы в своем соусе? Досталось всем сестрам по серьгам. И дикая американка, и турецкий султан, и китайский мандарин, и рыцарь средних веков – все поголовно рассыпались конфетами приветствий, и все на одну стать.
Зажмурьте глаза – и вы не узнаете, кто говорит: Оросман[241] или Альзира[242], китайская сирота или камер-юнкер Людовика XIV. Малютку природу, которая имела неисправимое несчастие – быть не дворянкою, по приговору Академии выгнали за заставу, как потаскушку. А здравый смысл, точно бедный проситель, с трепетом держался за ручку дверей, между тем как швейцар-классик павлинился перед ним своею ливреею и преважно говорил ему: «приди завтра!» И как долго не пришло это завтра, а все оттого, что французы нашли божий свет слишком площадным для себя, живой разговор слишком простонародным и вздумали украшать природу, облагородить, установить язык! И стали нелепы оттого, что чересчур умничали.
Чудное дело: французы, столь охочие посмеяться и пошалить всегда, столь развратные при Людовике XV и далее, словно вместо епитимьи, становились важны, входя в театр, стыдились услышать на сцене про румяны и слово обед изъясняли перифразами, как неприличность! Французы, столь пылкие, столь безрассудные в страстях, восхищались морожеными, подкрашенными страстями, не имевшими в себе не только правды, но даже и правдоподобия! Французы, у которых так недавно были войны Лиги[243], Варфоломеевская ночь[244], аква-тофана[245] и хрустальные кинжалы Медицисов[246], пистолет Витри[247] и нож Равальяка