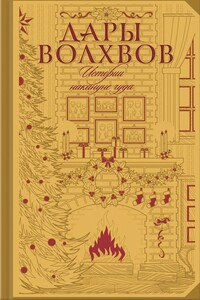Наконец за драмою возникает роман и потом идет об руку с драмою – роман, который есть не что иное, как поэма и драма, лиризм и философия и вся поэзия в тысяче граней своих, весь свой век на обе корки. Древние не знали романа, ибо роман есть разложение души, история сердца, а им некогда было заниматься подобным анализом; они так были заняты физическою и политическою деятельностию, что нравственные отвлеченности мало имели у них места; кроме того, где, скажите, они являлись развитые не диссертациями, а приключениями? Жизнь была сама по себе, а ученость сама по себе… Я по крайней мере не знаю ни одного романа, завещанного нам древностию, ни одного, кроме ее историй. Роман, каковы «Гаргантуа» и «Дон-Кихот», – дети нового порядка вещей, наследники средних веков. О нас, мильонщиках в этом отношении, речь впереди.
Между тем важный перелом мира вещественного от мира духовного тихо готовился в Элладе и в Риме, уже источенных пороками… Мраморные боги шатались, но стояли еще; зато их треножники были холодны без жертв, сердца язычников холодны без веры. Давно уже Сократ толковал об единстве бога[208] – и выпил цикуту, осужденный за безбожие. Но эта чаша смерти стиха заздравной чашей нового учения, которое проникло даже в сердца пританов – убийц Сократа. Школа неоплатоников[209] разрасталась, разливалась далее и далее, – она была для земли, раздавленной деспотизмом, прелюдией небесною! Души, томимые пустотою, чего-то ждали, чего-то жаждали, – и свершилось…
Древний мир пал.
Но он пал сражаясь, пал после долгой битвы, и стрелы его глубоко остались в теле нового ратоборца. Долго-долго потом, в поэзии, в художествах, в обычаях, отзывались поверья язычества, равно готического и эллинского. У бессмертного Данте Вергилий, come persona accorta[210], провожает поэта по всем закоулкам христианского ада. В католических соборах кариатиды-сатиры, кряхтя, поддерживают хоры или корчатся от святой воды в украшениях кропильницы. Языческие обряды остались доселе не только в играх народных, но слились иные и с обрядами веры. Зачем ходить далеко: вспомним постриги и поминки, вспомним игрища Ярилы и колядования о святках, семик и пр., и пр., и пр. Я уж не говорю, или я еще не говорю, о нашествии на Русь грецкого вкуса, который заставил нашего Ивана Горюна заиграть на свирелке Дафниса и Меналка[211], наслал в наши песенники купидонов и нимф и расплодил по всем городам пародии римских и греческих зданий. Приторный вкус, несообразный ни с характером, ни с климатом нашим.
Для нас, однако ж, необходим фонарь истории, чтобы во мраке средних веков разглядеть между развалин тропинки, по коим романтизм вторгался в Европу с разных сторон и, наконец, укоренился в ней, овладел ею. Странное дело: Востоку суждено было искони высылать в другие концы мира, с индиго[212], с кошенилью[213] и пряностями, свои поверья и верования, свои символы и сказки; но Северу предлежало очистить их от грубой коры, переплавить, одухотворить, идеализировать. Восток провещал их в каком-то магнетическом сне, бессвязно, безотчетно; Север возрастил их в теплице анализа, – ибо Восток есть воображение, а Север – разум. Я не приглашаю с собой ни старичков наших в плисовых сапогах от подагры, ни молодежи с одышкою от танцев. Пойдут со мной одни охотники побродить, – но, ради бога, ни костылей, ни помочей!
Предпоследний римлянин умер с Катоном[214], последний – с Тацитом[215]. Преторианские когорты[216] продавали уже скипетр Августа[217] с молотка, и бездарные тираны, один за другим, а иногда вместе по двое, всходили на престол, чтобы удивить с высоты этой Тарпейской скалы[218] целый свет своим развратом и насилием. Но Рим стоил таких цезарей, когда мог ползать пред ними, лизать их стопы… Со всем тем имя Рим все еще пугало этих царей старинным духом мятежей. Оно упрекало их прежнею славою, прежними доблестями, настоящим позором обеих, и Константин[219] перенес столицу в Византию. Рим переехал в Грецию, но переехал только в титуле императора; он не привез на берега Босфора ни пепла, ни духа предков. Римскому орлу приклеили еще голову, позабыв, что варвары подрезали ему крылья. Коварство заменило силу, семейные сплетни и расколы заняли изнеженный двор Византии, между тем как европейские, и азиатские, и африканские дикари напирали на границу империи, вторгались в ее сердце, пускали на жатву меч, раскатывали головней города. Какой словесности можно было ожидать при таком дворе, в таком выродившемся народе? Надутая лесть для знатного класса, щепетильная схоластика и богословские сплетни в школах – вот что, подобно репейнику, цвело там, где красовались прежде Тиртей