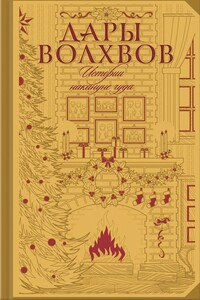Статьи - страница 22
И вот мы плывем не только вверх по течению Гапгеса, но и вверх по течению веков. Покуда не бросили еще сходня на берег, я скажу вам, что, по-моему, первобытная поэзия пародов непременно зависит от климата. Так у кафра, палимого зноем, и у чукчи, дрожащего от мороза, у обоих, которым голодная смерть грозит ежедневно, первая поэзия, как первая религия, есть заклинание. Он через колдуна, через шамана старается умилостивить злых духов или сковать пх клятвами. Напротив, у скандинава, у кавказского горца, у араба, людей столько же гордых, как бедных, столько же свободных, как бесстрашпых, у коих все зависит от самого себя, которые ничего в мире не знают выше собственных сил и отваги, поэзия есть песня самохваления. Прочтите вы саги, Оссиана, Моаллаки[187]; послушайте песен аварца или черкеса: это вечная вариация местоимений я или мы; а «мы» значило у них мой род, моя деревня, моя дружнна. Грек уже горд народною славою: у него отечество не одно свое селепие; силы его в равновесии с силами природы; небо у него самое благорастворепное, и он, вдохновенный им, поет гимн – песню благодарности богам, песню торжества собственного. Но Египет, сожженный, закопченный солнцем Египет, который произведен и живет только милостыней Нила, или эта Индия – оба края столь богатые драгоценностями и заразами всех родов, где жизнь качается на острие гибели… Скажите, мог ли там человек, запуганный природою, начать поэзию песнею благодарности или торжества? Конечно, нет. Скорей всего она была молитва, ибо индиец боготворит все и всего хочет, ибо все манит его, и хочет с жадпостию, ибо завтра для него существует. В Индии природа – мать и мачеха вместе для младенца-человека. Молоко великанских ее сосцоз смешано с отравою; ее мед опьяняет, как вино romodendron;[188] благоухание цветов ее убивает мгновенно, как manzenilla;[189] она душит человека то избытком сил, то избытком даров своих. Он чувствует пред пей свое бессилие, свою ничтожность и ползает перед судьбою, видя суетность расчетов и залогов на будущее; он приносит жертвы Ариману[190], злому началу, наравне с жизнедавцем Сивою[191]; он молится вещественным силам природы, нередко изуродованным через нелепый символизм отвлеченных качеств ее. Вот почему в многобожной Индии все носит на себе отпечаток религиозный, все, от песен до политического быта, ибо поэзия и вера, вера и власть там одно. Свидетели: «Магабхарата» и «Рамайяна» [192], две огромные поэмы индийцев. Что такое они, как не последняя битва падшей веры и государства Магаде[193] с победительною верою и властию будды? Это страшные грезы страшной действительности; это смешение самых чистых, первозданных чувств с самыми неестественными вымыслами; это благоуханная вязь цветов, перевитая жемчугом и алмазами, плавающая в потоке крови. Там убедитесь вы, что индиец может только роскошно мечтать, а не мыслить. Его герои – звери или волшебники; его боги – чудовища, его вера – угроза. Со всем тем, как ни грубы его верования, как ни бездвижны его касты, как ни причудливы его воображения, вы легко заметите в них попытку души вырваться из тесных цепей тела, из-под гнета существенности, из плена природы и нагуляться в новом, самозданном мире, отведать иной жизни, пожить с фантастическими существами. Это романтизм по инстинкту, не по выбору.
Но для чего нам распространяться о восточной словесности? Она неизвестна была древним, она чуть-чуть известна нам и потому не имела никакого влияния ни на классическую, ни на романтическую словесность. Заметим только, что фатализм, злобный, неумолимый фатализм Индии, смягчается у персов, поклонников огня, до мысли о благом промысле. Он молится уже не идолу, но недосягаемому солнцу, живителю мира; он бездействует, но уж более из лени, чем из безнадежности. Увидим, как яростен и силен этот фатализм, ринутый из своего покоя огнем Магоммеда, когда он дал обет арабам своим: мечом и Кураном завоевать свет и рай. Между тем как поэтическая религия ислама, подобно лаве, растекается по Востоку и зажигает его, сладкозвучный Фердуси плавит в радугу предания Персии и связывает ею истину с вымыслами. Говорю о «Шах-наме» (повесть царей), для которой ханжа персиянин до сих пор забывает свои четки, низкий корыстолюбец персиянин останавливает на воздухе руку, не досчитав своих туменов, для которой сластолюбивый лентяй персиянин открывает отяжелевшие от опиума веки, покидает незапертым гарем и спешит послушать «Шах-наме» от площадного певца. Он слушает, и улыбается, и гордо гладит бороду. Мил гуляка Гафиз, трогателен мудрец Саади, но Фердуси – о, это водопад Державина! Сколько раз уносился я одной музыкой стихов его, в то время, когда какой-нибудь мулла морозил мысль бессмысленным переводом!