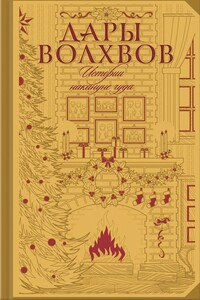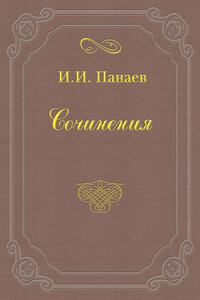«Клятва при гробе господнем. Русская быль XV века». Сочинения Н. Полевого. М., 1832[160]
La critique, dans les epoques de transition, tient lieu fort bien de tout ce qui n'est plus, ce qui n'est pas encore. La critique alors, c'est tout le poeme, c'est tout le drame, c'est toute la comedie, tout le theatre, c'est tout ce qui occupe les esprits; c'est la critique qui passionne et qui amuse; c'est elle qui eclaire et qui brule, c'est elle qui fait vivre et qui tue…[161][162]
Jules Janin
Знать, в добрый час благословил нас Ф. В. Булгарин своими романами. По дорожке, проторенной его «Самозванцем», кинулись дюжины писателей наперегонку, будто соревнуя конским ристаниям[163], появившимся на Руси в одно время с романизмом. Москва и Петербург пошли стена на стену. Перекрестный огонь загорелся из всех книжных лавок, и вот роман за романом полетели в голову доброго русского народа, которому, бог ведает с чего, припала смертная охота к гражданской печати, к своему родному, доморощенному. И то сказать: французский суп приелся ему с 1812 года, немецкий бутерброд под туманом пришел вовсе не по желудку, в английском ростбифе, говорит он, чересчур много крови да перцу, даже ячменный хлеб Вальтера Скотта набил оскомину, – одним словом, переводы со всех возможных языков падоели землякам пуще ненастного лета. Стихотворцы, правда, не переставали стрекотать во всех углах, но стихов никто не стал слушать, когда все стали их писать.
Наконец рассеянный ропот слился в общий крик! «Прозы, прозы! Воды, простой воды!»
На святой Руси по сочинителей не клич кликать: стоит крякнуть да денежкой брякнуть, так набежит, наползет их полторы тьмы с потемками. Так и сталось. Чернильные тучи взошли от поля и от моря: закричали гуси, ощипанные без милосердия, и запищали гусиные перья со всеусердием. Прежние наши романисты, забытой памяти, Федор Эмин[164], Нарежный, Марья Извекова[165], Александр Измайлов, скромненько начинали с какого-нибудь «Никанора, несчастного дворянина» [166], с «Евгения, или Пагубные следствия дурного воспитания» [167], с русского Жилблаза[168], который не чуждался ни чарки, ни палки. Тогда вороны не летали в хоромы!.. Добрые, простые времена! Но мы нашли, что простота хуже воровства. Острые локти наши, которые тоже любят простор, проглянули из тесных рукавов Митрофанушкина кафтана: иной бы сказал, что у нас выросли крылья, – так бойко начали мы метаться вдаль и в воздух. История сделалась страстью Европы, и мы сунули нос в историю; а русский ни с мечом, ни с калачом шутить не любит. Подавай ему героя охвата в три, ростом с Ивана Великого и с таким славным именем, что натощак и не выговорить. Искромсали Карамзина в лоскутки; доскреблись и до архивной пыли; обобрали кругом изустное предание; не завалялась даже за печкой никакая сказка, ни присказка. Мало нам истории, принялись мы и за мораль. «Нравоописательных ли, нравственно ли сатирических, сатирико-исторических ли романов? Милости просим! Кто купит?» О, наверно уж не я! В осьмую долю листа, в восьмнадцатую долю смысла, хоть торчковую мостовую мости. И надобно сказать, что все они с отличным поведеньем: порокам у них нет повадки; колют не в бровь, а прямо в глаз, не то что у иностранцев: на щипок нравоучения не возьмешь… У нас, батюшка, его не продают будто краденое из-под огонь; у нас оно облуплено словно луковка: кушай да локтем слезы вытирай. А уж про склад и говорить нечего! В полдюжины лет нажили мы не одну дюжину романов, подснежных, подовых романов, романов, в которых есть и русский квас и русский хмель; есть прибаутки и пословицы, от которых не отказался бы ни один десятский; есть и лубочные картинки нашего быта, раскрашенные матушкой грязью; есть в них все, кроме русского духа, все, кроме русского народа! Со всем тем почтеннейшая толпа земляков моих верит, что она покупает мумию русской старины во французской обвертке, с готическими виньетками, с картинками, резанными в Вене; верит, что эти романы – ее предки или современники; верит с тупоумием старика или с простоумием ребенка и целуется с этими куклами-самоделками; покупает не накупится, читает не нахвалится. Книгопродавцы, из бельэтажа собственного дома, поглядывают на бульвар и напевают: «Велик бог Израилев!» Добрейшие люди! А г. г. сочинители, возвратись с какого-нибудь жирного новоселья, и гордо развязывая гордиевы узлы густо накрахмаленного галстуха, и с улыбкою трепая свою шавку, говорят ей: «Гафиз, друг мой, знаешь ли ты, что я русский Вальтер Скотт!» Заметьте, я сказал: накрахмаленный галетух; это недаром, м. м. г. г.! Это предполагает чистый галстух; а чистый галстух предполагает, что владелец его посещает хорошее общество, а хорошее общество требует прежде блестящих сапогов, чем блестящего дарования, следственно сочинитель наш должен ездить, по крайней мере в гости, в экипаже. Надеюсь, вы теперь меня понимаете! На моей еще памяти иные истинные таланты носили черные галстухи и в праздник; ходили, увы! даже не в резинных галошах по слякоти и – что таить греха? – кланялись в пояс пустым каретам. Слава богу, слава нашему времени, скажу и я вместе с вами, которое за чернила платит шампанским и обращает в ассигнации листки тетрадей. Я не буду неблагодарен ни к правительству, которое ободряет и ограждает умственные труды, ни к публике, начинающей ценить нераздельно с сочинением и сочинителя; но я не буду и льстить нашим романописцам. Подумав беспристрастно, я скажу свое мнение откровенно; по крайней мере ручаюсь за последнее. Я думаю, что, несмотря на многочисленность наших романов, несмотря на запрос на романы, едва ль не превышающий готовность составлять их, несмотря на ободрение властей, мы бедны, едва ль не нищи оригинальными произведениями сего рода.