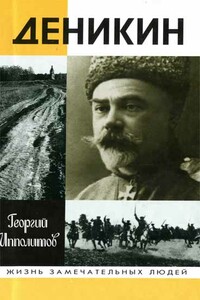Однажды сообщество, полное затей, избрало предметом испытания меня. В тот серенький день зрелой одесской осени Володьку, видимо, посетила муза. Охваченный творческим восторгом, он бросил мне вызов.
— Слабо тебе (это мне, значит), — сказал Володька, — дать Ирке в морду!
Народ очень оживился: моя кротость и флегматическая медлительность были широко известны. Володьку шумно поддержали. Дворовые дамы, в возрасте от шести до примерно одиннадцати, кровожадно вторили руководителю, что, мол, куда ему, слабо ему.
Ирка безучастно стоял тут же.
За что я должен был дать ему по морде — вопрос неуместный, вся интрига не имела отношения к проблеме вины и возмездия. Суть дела была в том, и только в том, может ли он, то есть я, дать человеку в морду. Всем было ясно, что драки не будет, что Ирка, мой ровесник, но еще более хилый, чем я, сдачи не даст. Он был всего лишь орудием проверки, неизбежной для исследовательских целей и для общего блага жертвой, морской свинкой, вот и все. Так в древней Спарте свободный юноша, чтобы доказать свое право вступить в сообщество мужей, должен был убить илота.
Давление общественного мнения нарастало и вскоре стало невыносимым. Ирка ждал. Чего мог ждать от судьбы мальчик, носивший девичье имя?
В конце концов, всякому малодушию есть предел. Я сдался, развернулся и неловко ткнул его кулаком в щеку.
Ирка заревел и, смешивая сопли со слезами, пошел домой. Публика, довольная гладиаторским представлением, разбрелась. Герой тщетно пробовал услышать в душе медь победных фанфар. Ничего, кроме неясного чувства отвращения к самому себе. Насильственное прикосновение моего кулака к невинному Иркиному лицу имело для меня роковые последствия: до сих пор не могу вообразить себя наносящим другому человеку удар по лицу — даже если лицо этого просит и мне очень хочется.
Надо было как‑то избавиться от мерзкого осадка — и я отправился еще погулять. Когда стемнело, я вернулся домой. И вот тут…
Оказывается, Ирка дома нажаловался на меня, а его отец, спустившись тремя этажами ниже, рассказал обо всем моему. Как папа Гоникман построил жалобу, установить невозможно. Но мой отец был вне себя. Не помню, чтобы я видел его когда- нибудь в таком гневе и отчаянии.
— Директорский сынок! — кричал он страшным голосом. — Директорский сынок избивает детей его сотрудников и подчиненных! Тебе, думаешь, все можно?! Позор! Что я теперь должен делать?!
Я хотел объяснить, что мне такое не могло даже в голову прийти, что все было совсем не так. Конечно, не надо было, ох, не надо было, но при чем тут сынок, я даже не очень понимаю, что это значит «директор» и чем он отличается от Гоникмана. Но меня не слушали. Самое ужасное и непостижимое было то, что отец кричал и плакал вместе.
Мне тогда, я думаю, было лет семь, не больше. Понятие «директор», этот непроницаемый прежде для сознания атрибут Моисея Борисовича, в некотором отношении стало для меня яснее и было наконец соотнесено с занятиями отца. Причина его крайнего — до слез — расстройства стала проясняться куда позднее. Создатель и ведущий уникальной школы, собравший единомышленников, с которыми вместе формировал — из сотен обездоленных и затерянных в трещинах исторических разломов еврейских детей — достойных и вооруженных к жизни людей, он переживал мой поступок как педагогическое поражение, как крах собственных моральных принципов, как несмываемый позор.
* * *
* * *
Впрочем, были вещи еще более опасные для его дела и идей, чем мое бессознательное и непреднамеренное хамство. У вечного, как‘мне казалось, единства «папа — Еврабмол» было временное ограничение, начало и конец.
Конец я видел своими глазами, не вполне понимая, что происходит. Странно, не понимал ведь, меня в то время очень охраняли от травмирующих знаний, но из сотен и сотен дней детства один остался в памяти с преувеличенной оптической внятностью — как батальная диорама, созданная мастерами Студии военных художников имени Грекова: дали написаны на холсте, а передний, главный, план исполнен в трех измерениях, цветной, совсем как настоящий.
Отец в тот день был дома. К нему с утра и до вечера ходили люди, которых я хорошо знал, — его друзья и сотрудники. Они уговаривали его что‑то сделать или, напротив, чего‑то не делать. Он не соглашался.