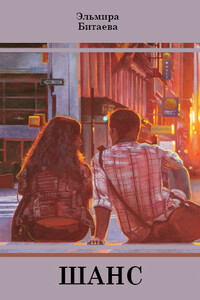— Братцы, помилосердствуйте! — умоляет мужичонка и рыскает по лицам вчерашних товарищей. Ему мучительно необходимо увидеть чьи-нибудь глаза, они подбодрят его, прогонят лютый страх. Но, не встретив ни одного взгляда, мужичонка обмяк и безучастно прошептал: «Быстрее уж».
Вот и в Новодевичьем звонят к ранней обедне, и барабанщик лупит березовыми палочками по телячьей коже. «Трель бьет», как выражаются господа военные. Под эту трель унтеры вошли в проем между шпалерами и медленно потянули за собой приклады ружей. Первые удары со свистом упали на белую кожу крестьянской спины. Мужичонка дернулся вперед, но живот больно кольнули ружейные штыки. Тогда мужичонка попятился, но крепкие унтеры легко пересилили его и размеренно повели, а потом потащили по «зеленой улице», и каждый взмах лозы оставил свой след на мужицкой шкуре. Всего на полста шагов продвинулась странная процессия, а белая спина превратилась в кровавое месиво, и с каждым новым ударом от нее разлетались по сторонам кровяные брызги.
— Братцы, помилосердствуйте, — шевелит дрожащими губами солдатушко-мужичонка, но не доходит его бормотание до шпалер, «братцы» слышат лишь треск военного барабана да крики офицера, подпрыгивающего в такт ударам за их спинами:
— Обжигай! Смелей, свиньи! Поддай! Еще парку! Так его, сукина сына! Поддай! Еще! Хай его! Хай, хай!..
Не щадят шпалеры своего товарища, спиною ощущая, как с каждым новым ударом все больше входит в раж «их благородие» — командир батальона. А кому хочется вот так же быть пороту?.. И хлещут по красному комку с выпученными глазами, что водят унтеры взад-вперед.
Мужичонка в очередной раз рухнул, сильно порезавшись о штыки. Унтеры попытались в очередной раз приподнять его, но — вот досада! — не убереглись и перемазались в кровище.
— Поднять, скоты! — заревел батальонный, в свою очередь досадуя на замешкавшихся унтеров.
Но тут решительно вмешался лекарь полка, и шпалеры обмякли, свободно вздохнув: кончилось их душевное мучение.
Мужичонку со свешивающейся клочьями и свалявшейся в комья кожей погрузили на телегу и отправили в лазарет. Если он оживет, то доходит недоданные ему полторы тысячи ударов. Полторы-то привычная русская спина выдержит.
Воспоминания озлили Федора Петровича, голубые глаза засверкали. Но злоба, он почувствовал, сейчас совсем иная, чем та, что на миг посетила его при чтении «Приключений знатной старушки». Сейчас Гааз почувствовал, что он болен, что он должен сражаться, и зашагал взад-вперед по своим комнатам, выкрикивая и жестикулируя:
— Позвольте, милостивые государи! Правительство не может приобрести в недрах своих мир, силу и славу, если его действия и отношения не будут основаны на христианском благочестии. Да, не напрасно глас пророка Малахии оканчивается сими грозными словами: «Если не найдется в людях взаимных сердечных расположений, то поразится земля вконец».
Федор Петрович не удержал дрожь — это из души перешла в тело нервическая жалость к униженной и оскорбленной части человечества. Душевное равновесие найдет теперь его, лишь когда он забудется в привычных делах, в неустанных хлопотах об устранении зла.
— Так-то я исполняю служебный долг — похаживаю, книжонки почитываю, а они меня ждут-пождут. Ай, как нехорошо получается.
Доктор поспешно стал натягивать свои старомодные желтые башмаки.
3
По двору Гаазовки — так прозвал Полицейскую больницу московский простолюдин — суетно расхаживал старик в замызганном кучерском армяке, перетянутом новеньким красным кушаком. Его красную рожу обрамляла нечесаная седая борода, а на макушке торчал заячий треух. Это был известный всей Москве кучер святого доктора Егор. Он то и дело презрительно сплевывал под копыта «дряхлых, как мы с доктором» кляч, впряженных тоже в известную всей Москве неуклюжую, но отменно вместительную пролетку.
Сегодня Егор не в духе — началась страшная неделя и пропустить стаканчик горькой боязно и грешно. С другой стороны, вчера был на гулянье, не удержался и выпил лишку, а сегодня нутро требует… Так неужто нельзя рюмашечку? Неужто сообща с другими грехами не отмолю?