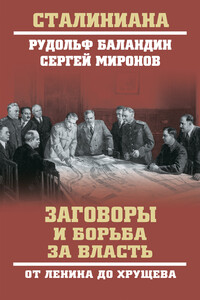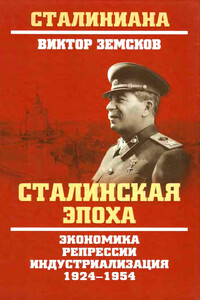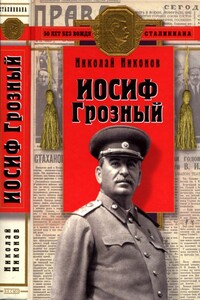— Ничего не вышло… Невозможно…
Вожди либерализма совещались меж четырех стен, умно и едко анализировали положение страны, умно и едко клеймили бездарную власть с трибуны Государственной думы и разных общественных совещаний. Но произнеся свои речи, подстегивавшие страну острым бичом, они расходились, как школьники, по домам, повинуясь бумажке, подписанной бессильным монархом. Хмурились генералы, озабоченно шептались дельцы, писали нервные донесения послы союзных держав: дела шли все хуже.
В этой атмосфере всеобщего брожения, как подземные кроты, всюду шныряли иностранные агенты, большие и маленькие. Одни добивались выхода России из войны — и стремились еще больше дезорганизовать жизнь страны. Другие хотели еще крепче завязать узлы войны — и этим тоже усиливали общее разложение.
…Дворцовая молодежь решилась на действие: в подвале, тайком, заманив обманом, убили Распутина, сбросили полуживое тело царского фаворита в прорубь. И все. На большее и они не были способны.
II
Но было ли вообще возможно большее? Нет. Не для этих кругов и не для этих людей.
Яснее всего представляли себе положение вещей сторонники крайних правых мер, поседевшие у рычагов государственной машины сановники, эта «старая гвардия» большевизма справа. Их воспитал и просветил опыт многолетней борьбы с революцией. В их распоряжении была прекрасная полицейская информация. И они презрительно отводили мысль о дальнейших шагах по пути парламентаризма. Они говорили, что нет ничего ошибочнее мнения, что «стоит монарху даровать действительные, настоящие права и гарантии, пойти навстречу заявленным требованиям об ответственном министерстве, принести за себя и за своего наследника присягу на верность конституции, и тотчас же настанут для России светлые дни, все сразу успокоится, а умеренные партии законодательных учреждений… выведут государство из тупика, в который оно поставлено нерешительной и непоследовательной политикой правительства». Ничего этого не будет. Умеренные партии законодательных учреждений «столь слабы, столь разрозненны и, надо говорить прямо, столь бездарны, что торжество их было бы столь же кратковременно, сколь и непрочно». Другое дело партии левые. «Несмотря на совершенную нелепость их настоящих представителей в Думе, несмотря даже на то, что нет такого социал-демократа или социал-революционера, из которого за несколько сот рублей нельзя было бы сделать агента охранного отделения, опасность и силу этих партий составляло то, что у них есть идея, есть деньги, есть толпа, готовая и хорошо организованная. Эта толпа часто меняет свои политические устремления, с тем же увлечением поет „Боже, царя храни“, как и орет „Долой самодержавие“, но в ненависти к имущим классам, в завистливом порыве разделить чужое богатство в так называемой классовой борьбе — толпа эта крепка и постоянна. Она вправе притом рассчитывать на сочувствие подавляющего большинства крестьянства, которое пойдет за пролетарием тотчас же, как революционные вожди покажут им на чужую землю».
«При полной, почти хаотической незрелости русского общества в политическом отношении объявление действительной конституции… сопровождалось бы прежде всего, конечно, полным и окончательным разгромом партий правых и постепенным поглощением партий промежуточных… партией кадетов, которая поначалу и получила бы решающее значение. Но и кадетам грозила бы та же участь… Бессильные в борьбе с левыми и тотчас утратившие свое влияние, если бы вздумали идти против них, они оказались бы разбитыми своими же друзьями слева… А затем… Затем выступила бы революционная толпа, коммуна, гибель династии, погромы имущественных классов и наконец мужик-разбойник. Можно бы идти в своих предсказаниях и дальше и после совершенной анархии и поголовной резни увидеть на горизонте будущей России восстановление самодержавной царской, но уже мужичьей власти в лице нового царя, будь то Пугачев или Стенька Разин»…
Надо сказать, что авторы этой записки, поданной императору в ноябре 16-го года, дали прекрасный анализ положения страны, веса ее политических партий, дали почти пророческое предвидение будущего. К их анализу надо только добавить мнение обслуживавшей их полиции о наиболее жизненном элементе революционных партий: «Наиболее бодрыми, энергичными, способными к неутомимой борьбе, к сопротивлению и постоянной организации являются те организации и те лица, которые концентрируются вокруг Ленина».