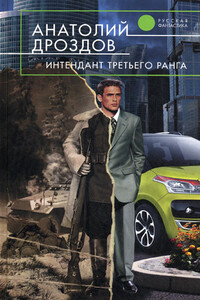И топаем мы с понуро опустившим плечи аспирантом в лабораторию, где нас ждут бесконечные горы чашек Петри, заполненных красноватым марсианским грунтом.
Знаю я, куда он намыливался, – к инженерам в отсек. Зазноба там у него, как донесла до меня голубиная почта местных сплетен.
А работать кто будет, спрашивается?
Так вот и превращаешься в мерзкую занудную тетку. Но я ведь права, разве нет?
Не цветут еще на Марсе яблони, чтоб под ними детишек делать. Не цветут, проклятые! Им, чтоб цвести и расти, почва нужна. И магнитное поле, чтоб атмосферу держать. С проблемой поля, допустим, физики с инженерами сейчас возятся, вроде есть у них разумное решение, для начала можно и в закрытых теплицах выращивать… А вот почва – образование, что называется, биогенное. Без живых организмов, получается, взять ее неоткуда. А кто у нас самые неприхотливые и быстро размножающиеся живые организмы? Собственно, бактерии и есть. И к радиации некоторые устойчивы, и к замерзанию. И полезными генами, эту устойчивость передающими, они друг с другом радостно поделятся – никакой генной инженерии не надо. Хотя, конечно, и без нее в нашем проекте не обошлось. А началось все с бактерий-экстремофилов. Ну, таких, что обитают черт-те где. Некоторых с глубоководья достают, некоторых – на свалках ядерных отходов откапывают. Их-то в итоге советская наука и наградила правом первопроходцев в деле колонизации Марса. В Европе и Штатах тоже, конечно, разработки велись, но мы успели первыми. Застолбили, так сказать, приоритет.
Помню ту пресс-конференцию, где шеф распинался про нашу уникальную бактерию. А мы все стояли с серьезным видом, сдерживая неуместное хихиканье: ох и намучились мы с этой «неприхотливой» тварью, пока подобрали нужные условия!
Давным-давно, десяток лет назад, и за примерно триста миллионов километров отсюда, болтая с симпатичными юношами-физиками или, того пуще, с математиками, я не стеснялась обронить кокетливое замечание о том, что для точных наук мне недостает строгости мышления. Сейчас, вперив в такого юношу тяжелый взгляд, я бы продолжила: «… зато мне хватает крепости нервов, чтобы работать с живыми объектами!»
Представьте себе, уважаемые адепты точных наук, что у вас в расчетах, скажем, число «пи» каждый раз получается немного иным. Ужас, правда? А у нас это – обыденное явление. Живые системы, чтоб их! Нелинейно, хаотически, спонтанно и беспрестанно изменяющиеся. Эволюционирующие и приспособляющиеся. Даже самые крохотные бактерии – сложные молекулярные машины, сложнее всего, что когда-либо придумало человечество.
Теории хаоса давно пора покинуть сферу математики и стать краеугольным камнем биологии, мрачно думала я десять минут спустя, когда Никита, наспех облаченный в костюм биозащиты, извлекал из термостата очередную партию чашек с грунтом.
Не растет на этом грунте ничего, вчера росло, а сегодня нет. Если б опыт удался, за ночь бактерии уже образовали бы видимую невооруженным глазом пленку.
– Ну вот чего они, а? – с неподдельным отчаянием пробормотала Лена.
– Теория хаоса, – важно произнес Никита. Он-то моих упаднических речей успел наслушаться, он тут хоть и не с начала проекта, как я, но уж несколько лет точно. – Нелинейные системы… Даже в одной клетке процессы не описать линейными моделями, а уж в сообществе! Одной молекулы достаточно, чтоб запустить какой-нибудь каскад…
– И откуда же она прилетела, эта молекула? – Я бесцеремонно перебила его излияния. Объяснения придумывать – это мы мастера, результаты вот кто получать будет?
Никита растерянно покосился на мембрану шлюза, через которую только что прошел. Это мы стоим снаружи, за толстым стеклом, отделяющим бокс повышенной стерильности от основного помещения. А он парится там в полностью закрытом защитном костюме. На Земле такие предосторожности используют только при работе с патогенными штаммами, что вызывают серьезные болезни. Наши же бактерии совершенно безобидны. Не себя от них мы защищаем, а наоборот. Все параметры среды для эксперимента должны быть известны точно, занесем что-нибудь лишнее – в жизни потом не разберемся, отчего изменились данные.