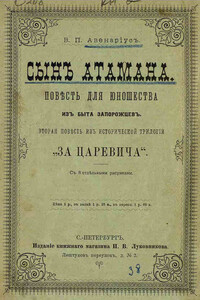Самого Наполеона в театре не было. Для себя он устроил в Кремле особую концертную залу и итальянских певцов из-за границы выписал. Чай, тоже своими фальшивыми сторублевками платить им будет. Поздравляю певцов!
Сентября 15. Что ни день, то мои офицеры в театре. Третьего дня давались «Три султанши», вчера – «Рассеянный Фигаро», сегодня пойдут «Проказы в тюрьме», завтра – «Сид и Заира».
– Нет, – говорят, – пищи для тела, так есть хоть для духа.
Да порядочна ли она еще, господа, эта ваша духовная пища?
Впрочем, на однообразие жаркого им жаловаться уже не приходится: Пипо, что ни день, с ружьем на охоту ходит и своему господину то галку, то ворону, то кошку бездомную на крыше подстрелит.

От полковых же фуражиров и вправду мало толку: как от козла – ни шерсти, ни молока. Хотя их и рассылают по окрестным деревням, но проученные уже крестьяне, вилами, дубинами, рогатинами вооружившись, по дорогам их подстерегают и расправляются с ними самосудом. Страшное дело – самосуд! В озлоблении своем люди звереют, всякие лютости чинят. И раньше или позже кара их постигает. Так маршалом Даву на сих днях была захвачена группа вооруженных мужиков и военным судом осуждена к расстрелу. Но тут-то, перед лицом смерти, сказалось все христианское смирение русского человека. Когда осужденным прочитали смертный приговор (в русском переводе), они меж собою, как бы перед отъездом в дальний путь, обнялись, поцеловались. Когда же их поставили в ряд и одного за другим стали расстреливать, ни один не выказал малодушия, не молил о пощаде; когда до кого доходила очередь, он призывал имя Божие, крестился и падал под пулей на вечный сон.
– Изумительно! – говорил Ронфляр своим товарищам. – Точно спартанцы или римляне…
– Да, г-н майор, – говорю я ему. – И простой русский народ, как видите, умеет умирать за свою веру и родину.
Не понравилось, прикрикнул:
– Тебя кто спрашивает? Пошел в свою берлогу!
Сентября 16. Новое святотатство: с колокольни Ивана Великого золотой крест сняли; отвезут его, слышно, в Париж и на куполе Дома Инвалидов водрузят. Сам Наполеон из кремлевского дворца наблюдал за рабочими. Русские рабочие от столь безбожного дела, понятно, наотрез отказались. Тогда вызвали плотников и кровельщиков из своей же французской армии. Огромный крест, однако же, оказался для них не по силам грузным; сдержать на цепях не смогли, и грохнулся он с высоты на мостовую. Никого хоть, к счастью, не убило.
Заходила к нам проведать господ офицеров старая маркитантка Дюбоа.
– А что, мадам Дюбоа, – говорят ей, – будете вы сегодня в Кремле на костюмированном бале?
– Где уж мне! – говорит. – Император дает бал для здешней французской колонии…
– Да вы-то чем хуже здешних дам? Сколько ведь потрудились на походе для нашей армии!
– У меня, господа, и костюма подходящего нет…
– Ну, костюм-то мы вам подарим.
Кликнули денщиков и велели разложить перед нею на выбор все женские платья, что заключались в сундуках, которые вырыли намедни в саду под дубом. Долго выбирала старуха, пока не решилась нарядиться русской боярыней. Хороша боярыня! И смешно-то, и зло берет.
Старая гвардия отличается. Муниципалитет. Француженки-торговки. Осквернение храмов. Парламентер у Кутузова
Сентября 17. Грабеж все усугубляется. На столе у лейтенанта д’Орвиля усмотрел только что такой приказ – привожу его по-русски:
«В старой гвардии беспорядки и грабеж сильнее, чем когда-либо, возобновились вчера, в последнюю ночь и сегодня. С сожалением видит император, что отборные солдаты, назначенные охранять его особу, долженствующие подавать пример повиновения, дошли до такой степени ослушания, что разбивают погреба и склады, заготовленные для армии. Другие унизились до того, что не слушают часовых и караульных офицеров, ругают их и избивают».
Герои Аустерлица! Львы Наполеоновы! Слышали ли вы про баснословных львов, что, будучи ввергнуты в общую яму, так меж собой перегрызлись, что одни хвосты остались!
Сентября 18. Под видом, что печется о благе обывателей московских, Наполеон со вчерашнего дня новое городовое и полицейское управление завел, муниципалитетом именуемое. Начальником сего му-ни-ци-па-ли-те-та (натощак и не выговорить!), префектом, купец французский Лессепс назначен, который до войны французским консулом в Петербурге состоял и по-русски с грехом пополам маракует. Себе в помощь он с полсотни из здешних иностранцев навербовал, а равно и из тех русских купцов, что остались еще в городе.