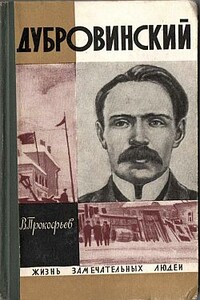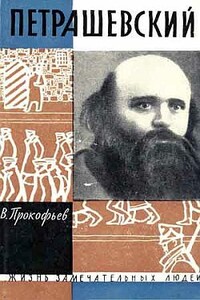Пушкин умер. Жандармский офицер Ракеев тайно вывез его тело из столицы. Жандармы же забрали архив великого поэта в Третье отделение. Бюрократы Третьего отделения зарегистрировали каждую бумажку и каждую пронумеровали, расставив в верхнем правом углу листа красным карандашом цифры. Потом бумаги были возвращены семье. И постепенно стали исчезать. Их раздаривали знакомым и приятелям. К этому приложили руку не только члены семьи поэта, но и его ближайшие друзья.
В 80-х годах сын поэта передал сохранившиеся рукописи Пушкина в Румянцевский музей, а уже в советское время все рукописное наследие поэта собирается Пушкинским домом в Ленинграде.
И вот тут-то и пригодилась жандармская нумерация. Ведь сохранилась масса стихотворений, которые по традиции приписывались Пушкину. Если просмотреть первое посмертное издание сочинений Александра Сергеевича, выпущенное Г. Н. Геннади, то количество не пушкинских произведений столь велико, что они умаляли и славу и художественную ценность творчества поэта. Недаром была сочинена эпиграмма:
О жертва бедная
Двух адовых исчадий!
Тебя убил Дантес,
А издает Геннади.
Выявляя доселе неизвестные произведения Пушкина, исследователи прежде всего обращали внимание на то, есть ли, или нет в правом верхнем углу красных жандармских цифр. Если есть, остается только сверить эти цифры с нумерацией основного пушкинского фонда. Если листа под таким номером в фонде нет — значит рукопись принадлежит Пушкину и попала в чужие руки после его смерти. Так были приобретены и так называемые «Онегинские рукописи» в Париже. Любопытно, что этот Онегин не пушкинский герой, а реальный русский барин, меценат, проживавший в Париже. Ему-то и подарил сын Жуковского пушкинские рукописи, пронумерованные жандармами.
Итак, вернемся к внешним «мелочам» следственного дела декабристов. Мы говорили о нумерации.
На обложке или на первых листах дела мы находим номер, обыкновенно сделанный карандашом и не совпадающий с тем, который проставлен в середине обложки. Трубецкой числится по спискам под № 1, а на первом листе его дела стоит № 21, Каховский и по номеру в середине обложки и по списку — № 5, а на первом листе его дела проставлен № 27 и т. д. Эта вторая нумерация станет ясной только тогда, когда мы обратимся к концу каждого дела. В конце дел приложены сводки или «выборка из показаний» на данного декабриста, то есть выборка из дел других декабристов тех мест, где упоминается о том обвиняемом, в деле которого помещена эта выборка. В этой выборке дела декабристы значатся под первоначальными номерами, не совпадающими с номерами по списку лиц, передаваемых суду, так как список (в котором декабристы размещены в соответствии с классификацией степени их виновности) был составлен в конце следствия. Таким образом, карандашные номера более ранние, а окончательное оформление и нумерация дел, степень виновности декабристов были определены только в конце следствия.
Помимо показаний, которые обвиняемые декабристы давали на допросе в заседаниях комиссии, им посылались еще по месту их заключения письменные вопросы, на которые они там же писали ответы. Эти вопросы именовались «допросными пунктами». Вместе с ответами их возвращали в следственную комиссию. Если для ответов заключенному не хватало бумаги, тюремное начальство выдавало несколько листов, точно просчитывая их и иногда обозначая тот бастион или каземат, где находился данный заключенный. Такое обозначение делалось и на конверте, в котором возвращались допросные пункты с ответами в комиссию. Это позволяет нам узнать, где находился тот или иной декабрист во время следствия (например, Рылеев находился в каземате № 17 Алексеевского равелина, Каховский — в «Аннинском бастионе», каземат № 5, там же Никита Муравьев в каземате № 4 и т. д.).
Любопытны наблюдения над некоторыми внешними особенностями дел отдельных декабристов.
В деле Якубовича важно обратить внимание на почерк. Якубович был темпераментным южанином, великолепным оратором, умевшим увлекать, убеждать. А вот его показания бессвязны, запутанны.
Сличаешь почерк его различных письменных показаний, и кажется, что их писали разные люди. И поэтому можно установить зависимость изменений почерка от изменения настроения Якубовича. На допросе в декабре Якубович писал: «Если нужна для примера жертва, то добровольно обрекаю себя». В начале 1826 года произошел перелом, и 9 января он уже говорит иное: «Чистосердечием и раскаянием я имею только надежду облегчить мою участь». И он дал все требуемые от него показания. Все эти изменения настроения Якубовича отразились на его почерке.