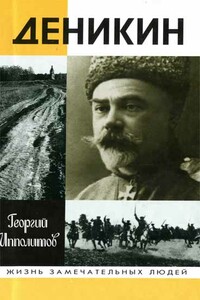43-й армейский корпус генерала пехоты Хайнрици, который в составе трех дивизий (131-й, 134-й, 252-й пехотных дивизий) западнее Пружан вошел в заповедные леса Беловежской пущи, постоянно отражал атаки, при этом 134-я пехотная дивизия генерал-лейтенанта фон Кохенхаузена на несколько дней оказалась в окружении.
Дальше к востоку — на Зельвянке — в это время разыгрывались ожесточенные бои за деревни и холмы, за леса, болота, перекрестки дорог. Главные силы советской 10-й армии всеми средствами пытались прорваться.
12-й армейский корпус генерала пехоты Шрота в составе 31-й и 34-й пехотных дивизий не сходил с места и вынужден был вместо того, чтобы поддерживать продвижение танковой группы Гудериана на восток, повернуть на север.
На северном фланге 5-й армейский корпус генерала пехоты Руоффа (5-я, 35-я и 161-я пехотные дивизии) повернул на юг, чтобы не допустить прорыва противника в северном направлении, чтобы 3-я танковая группа могла продолжить наступление на новый указанный рубеж под Минском. Пятая пехотная дивизия генерал-майора Альмендингера должна была всеми силами отражать постоянные атаки. Только 6-й армейский корпус генерала саперных войск Фёрстера (6-я и 26-я пехотные дивизии) продолжал идти по пятам моторизованных частей танковой группы. [41]
Летняя жара была необычно сильной. Колонны пехоты и артиллерийские дивизионы на конной тяге фунтами глотали пыль проселочных дорог. При этом еще не знали, готовят ли русские войска прорыв в немецкий тыл.
Тем временем фронт окружения на востоке, проходивший широкой дугой от района южнее Гродно, западнее Белостока, до Пружан, был настолько укреплен, что отдельные дивизии, как, например, 87-ю пехотную дивизию генерал-лейтенанта фон Штучница, снимали с фронта, чтобы искать трофеи на поле боя и выслеживать отставшие русские колонны.
Командир 9-го армейского корпуса генерал пехоты Гайер, четыре дивизии которого (17-я, 137-я, 263-я и 269-я пехотные) удерживали фронт окружения юго-западнее Белостока, писал в своем первом докладе о боевом опыте командующему армии:
«В обращении с местным населением войска постоянно прибегают к услугам говорящих по-немецки военнопленных, которых ведут с собой. Они себя отлично зарекомендовали.
В остальном общение не слишком тесное, так как отсутствует понимание языка, и немецкий солдат не воспринимает страну и людей как равных.
К тому же все слишком заброшенно.
Впечатление запущенности является преимущественным в этой стране. Оно еще больше укрепляется тем, что сожжено необычно много домов, а также тем, что города уничтожены в таких размерах, которые значительно превосходят известные из опыта Польши и кампании на Западе.
Большинство солдат относится к населению добродушно, хотя необходимость отбирать [42] продовольствие и лошадей, а также другие причины могут способствовать некоторым актам жестокости.
Отношение населения колеблется от удивительного безразличия до обычно боязливого любопытства и доверчивости. В связи со слишком большими разрушениями много беженцев, передвигающихся чаще всего со всем скарбом. Но каких-либо грабежей домов не замечено. На прежней польской территории немецких солдат восторженно встречали как освободителей. Но и на прежней русской территории бывает, что бросают цветы и дружески встречают.
Доверие населения проявляется прежде всего в том, что закопанное продовольствие и другую собственность снова выкапывают, когда приходим мы, так как немецкий солдат, конечно же, ее не отберет.
Часто население из страха выдает отставших русских солдат, так как они могут жить, естественно, только за счет грабежа населения.
Каких-либо актов саботажа со стороны населения в полосе корпуса не замечено. Напротив. В тех случаях, когда запуганное население вообще осмеливается что-либо говорить, высказывается много недовольства колхозным строем и всем большевистским хозяйничаньем.
В целом командование корпуса расценивает опасность партизанской войны при поддержке населения как небольшую. Люди в пройденных нами районах по своему образу жизни и высказываниям не производят впечатления, что вообще могут фанатично придерживаться какой-либо идеи».