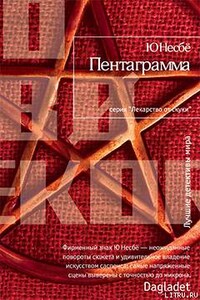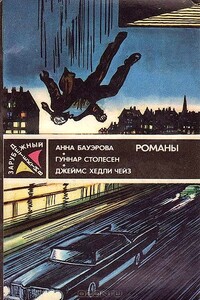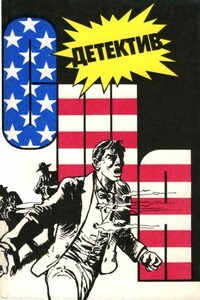— Она — нет, а муженек ее — точно. У него всегда был забот полон рот, так что он никак не мог дать Яну-малышу уверенности и домашнего покоя, в которых он так нуждался.
— Да. Но вы же с ним были товарищами, ты сам как-то сказал.
— Недолго. Вся дружба кончилась, как только он сошелся с Вибекке.
— Почему?
— Так уж вышло, — пожал Ханс плечами.
— Я вчера узнал от человека, мнение которого заслуживает доверия, что твой студенческий товарищ стоял во главе всей контрабанды спиртного на побережье.
— Ты же вроде говорил о Клаусе Либакке?…
— Либакк отвечал за распространение здесь, в Фёрде. А Скарнес заправлял всем делом.
— Свейн?!
— Да. Именно он наладил контакты с немецкими поставщиками, он договаривался с судами, на которых провозили контрабанду через границу, потом товар перегружали на маленькие рыбацкие шхуны, а уж они развозили товар по всем фьордам, от Согнефеста до Сёльве. И это еще не все…
Ханс снова потянулся за бутылкой. Я кратко посвятил его в суть дела: подробности, связанные с убийством Ансгара Твейтена, связь с двойным убийством в Аньедалене, беседы, что состоялись у меня за последние дни с Метте Ольсен, Труде Твейтен и Терье Хаммерстеном.
Он наклонился ко мне:
— Хаммерстена я знаю. Жестокий, гад.
— У меня такое же впечатление.
— У него есть четырнадцатилетний сын, который то и дело попадает к нам в центр.
— А кто мать?
— Не знаю… Черт, вспомнил! Чтобы это выяснить, понадобилось несколько лет. Мать — уличная проститутка. Отец — Терье Хаммерстен. Парень переходил из одного детского центра в другой, а Хаммерстен этот — вообще сущая пытка. Когда я в прошлый понедельник приехал домой — отсюда, кстати, — он уже ждал меня у двери, ругаясь на чем свет стоит.
Я сидел и смотрел на него во все глаза.
— Так Терье Хаммерстен был у тебя в Бергене утром в прошлый понедельник?
— Да. А что? — Он вопросительно взглянул на меня.
— Но ведь… ты же только что подтвердил его алиби, черт тебя возьми!
— Алиби? Ты хочешь сказать… Ты думал, что убийца — Хаммерстен?
— А что, звучит неправдоподобно?
— Да нет. Но какое ему дело до Кари и Клауса?
— Ему есть дело до контрабанды спиртного. Мне рассказали, что в семьдесят третьем году он угрожал Свейну Скарнесу по телефону.
— Угрожал? А кто его послал?
— Может, поставщики в Германии. — Я развел руками. — Откуда я знаю? Тебе лучше сообщить о встрече с Хаммерстеном в понедельник в полицию, Ханс.
Он рассеянно посмотрел на меня:
— Еще один гвоздь в гроб для Яна Эгиля?
— Боюсь, что так. Черт!
— Варг, если бы ты только знал, как я виню себя! Если б знал, что меня гложет…
— Боже мой, Ханс! Кто же мог знать, что все так обернется?
— Никто, конечно. — Он сделал большой глоток из своего стакана и помотал головой, как будто распределяя алкоголь по всем мозговым клеткам, которые жаждали опьянения. — От всего этого можно прийти в отчаяние. Мы надрывались, чтобы помочь этому парнишке. И чем все, на хрен, кончилось? Двойным убийством!
— Ну-ну. За это должен кто-то ответить…
Мы помолчали и снова наполнили стаканы. Мои клетки получили свою дозу — свет стал ярче, а комната изменилась — стала будто бы меньше и более вытянутой. Ханс пошел отлить. Когда он вернулся, я увидел, что его тоже пробрало — он слегка пошатывался. На этот раз он так рухнул на кровать, что она чуть не сломалась.
— Я расскажу тебе кое-что, чего ты еще не знаешь, Варг… — Он облокотился на колени, держа стакан обеими руками. Потом он поставил его, театрально хлопнул в ладоши и развел руки в стороны, объявив: — The Story of my Life, рассказанная by The One and Only Hans Haavik Pedersen…[15]
— Педерсен?
— А ты не знал? Это фамилия моей матери — Ховик. Я взял ее, когда мне исполнилось шестнадцать. А вот отца мне благодарить было не за что. Совершенно!
— Ты не должен мне…
— Нет! Я хочу! Сейчас ты услышишь… Мой отец, Карл Оскар Педерсен, был беззаветным алкоголиком. Я его практически не помню. Он умер, когда мне было четыре года. Мои воспоминания о нем — это его ужасные крики и сдавленные рыдания матери — он кричал на нее, когда возвращался домой после пьянки. Кричал и бил. Я был слишком мал и не помню, бил ли он меня. А вот ей здорово доставалось — изо дня в день. Так что моя мать была больше похожа на труп, бездыханное тело, которое надо было приводить в порядок с помощью огромных доз медикаментов. Ее регулярно клали в больницу, так что заниматься ребенком она никак не могла. Плохие у нас законы. Невозможно плохие. Такие плохие законы, которые только и годились для Норвегии в первые годы после Второй мировой, когда до более менее благополучного государства было еще далеко. — Он поднял стакан и отхлебнул.