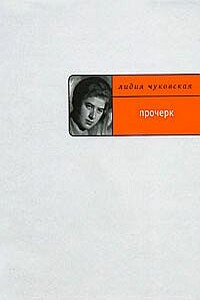"И уничтожение "Эмес" тоже необходимо для спасения Москвы?" - хотела я спросить, но не спросила. "И клевета на критиков? И раздувание антисемитизма?"
Но я молчу. Не спорю. Билибин весьма вразумительно объяснял мне то, что, впрочем, я и сама знала: бессмысленность и рискованность споров на все эти темы. Например, к чему спорить с таким чурбаном, как Клоков? Это и опасно и безнадежно.
- Понять он все равно ничего не поймет, - пояснял мне Билибин, - а черт его подери еще и заявление напишет: "Такого-то числа, там то, в присутствии таких то, такая то высказывала антипатриотические мысли, выражая недоверие партийной печати". И начнут нас, голубчиков, Сергея Дмитриевича и меня, тягать как свидетелей... И пойду я на вас показывать! - закончил он со смехом. - Нет уж, Нина Сергеевна, увольте! нельзя быть такою несдержанной. Пощадите себя да и нас грешных. Нельзя.
Оказывается, сам он, Билибин, попал в лагерь за какое-то лишнее словцо в приятельской компании. Кто-то донес - и пошло... Всех тягали. Один уперся, двое подтвердили. И сломана жизнь.
Векслер, разумеется, другое дело, с ним можно говорить, не опасаясь, но к чему же, настаивал Николай Александрович, мешать человеку придавать глубокий и таинственный смысл злобной бессмыслице, если таким способом ему легче сохранять душевный покой? Пусть.
У Векслера мы впрочем сидели недолго. Слишком уж явственным было его желание говорить со мною одной. Я поднялась. Он вскочил с дивана - в пижаме и в носках. Листки полетели на пол. Он кинулся их подбирать.
- Не нужны мне светские визиты, - мрачно сказал он мне, сидя на корточках и грозно глядя на меня снизу вверх. - Я хочу увидеться с вами, чтобы прочесть вам новые стихи...
Векслера мне, конечно, жаль и я буду слушать его стихи - а вот от Клокова меня просто тошнит. Сам рассказал нам однажды за обедом, как в детстве, лет двенадцати, он учился стрелять: привяжет кошку к дереву и палит из ружья. "А то, когда она движется, то прыгнет, то побежит, трудно попасть", - объяснил он. "Недурная подготовка для профессии критика!" подумала я... Я задыхаюсь от смеха и бешенства, когда он рассуждает о стихах.
- Не все и у классиков хорошо, - произнес он вчера. - Вот, например, у Некрасова: "В лесу раздавался топор дровосека". На самом деле так говорить неправильно: ведь стук раздавался, а не топор. Но ввиду того, что Некрасов классик - мы ему прощаем. Сегодня за обедом он прочел нам целую лекцию о любви.
- Из руководящих организаций, - сообщил он, - поступило разъяснение: напрасно наша печать - наша литература, - поправился он, - не уделяет достаточного внимания вопросам любви. Чувству любви пора занять в жизни и в литературе положенное ему место. Классики марксизма были не против любви. У нас до сих пор недостаточно учитывали, что любовь повышает энергию и эта энергия окрыляет человека на трудовые подвиги, которые, в свою очередь, можно повернуть на строительство коммунизма... Маркс, Энгельс, Ленин очень положительно расценивали любовь именно потому, что она стимулирует...
- Нина Сергевна, - сказал мне умоляюще Билибин, когда мы после обеда вместе поднимались по лестнице, - прошу вас, поедем рыть канавы! Я чувствую, как во мне проснулась энергия! Ее необходимо повернуть.
От смеха я согнулась и еле добежала до своей комнаты.
Сейчас вечер. Я сижу у себя и жду Билибина. Он непременно придет. Тикает, тикает электростанция, отсчитывает наши минуты. Лампы то наливаются светом, то меркнут. Я жду знакомых шагов и пробую читать "Замок Броуди". Но что-то не читается мне. Вчера я видела Лелькину избу. Это поинтереснее всякого замка. Я взяла с собой пирог, конфеты, которые нам дают к чаю и книжку русских сказок, случайно оказавшуюся в здешней библиотеке.
В Быкове всего 9 домишек - было 30, да немцы в сорок первом сожгли. Заборы, грязь, тощие козы с какой-то сбившейся паклей вместо шерсти. В избе у Лельки грязные тряпки, грязные крынки и во всю мочь над тряпками и немытыми детьми орет круглый рупор. Вид у комнаты такой, будто в ней только что побывали воры, все как есть вынесли, а оставшийся хлам разбросали: на полу осколок зеркала, на столе - засаленные подушки без наволочек. Лелька, босая, лохматая, таскает по комнате годовалого Витьку, подкидывая его повыше, а он все сползает. - "Опираясь на огромную помощь партии и правительства, - сказала радиотарелка, когда я вошла, - в техническом оснащении сельского хозяйства, в текущем году в небывало короткие сроки..." Я выключила радио, посадила малыша на кровать и сунула ему в рот конфету. Лельке тоже - и начала читать ей сказку. Как она слушала! Руками, бровями, коленками, трущимися от нетерпения друг о друга, открытым ртом. Положила в рот кусок пирога и забыла жевать и глотать. Одна сказка была про перышко Финиста-Ясна-Сокола, другая про злую царевну, обманом укравшую волшебную свирель у бедняка пастуха.