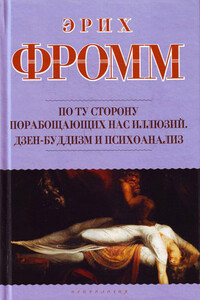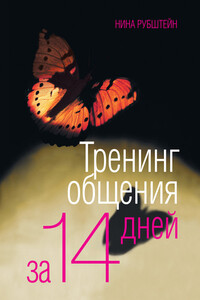Спасите игру! Ведь жизнь — это не просто функция - страница 14
В любом случае, эйнштейновский «старик» был Гераклиту незнаком. Мир, вызванный к бытию всемогущим Творцом, — это представление, к которому никогда не пришёл бы никто из древних греков. Тот мир, в котором им доводилось жить, их пёстрый, прекрасный Космос никак не мог быть творением какого-то бога. Он был всегда и всегда будет. Боги — такие же обитатели этого мира, как мы: правда, они бессмертны, но в остальном не столь уж от нас отличаются. И лишь в одном они превосходят людей: они игроки. «Живя в блаженном досуге, они играют, играют не только в игры: они играют любовь, играют труд и играют борьбу», — говорит философ Ойген Финк[6]. И он не ошибается. В самом деле, боги Греции не знают забот. Они ни к чему не стремятся, не творят никаких миров, не то что хмурый библейский Создатель. Пока тот на горе Сион даёт народу заповеди или насылает казни на врагов его, Зевс пристаёт к земным девушкам, флиртует и играет с ними. Величайшего из греческих богов не понять, если не видеть, что он играет. То же самое касается и остальных богов Олимпа.
А причина проста: античные боги — это сгустки бытия.
И раз уж греки всё сущее наделяли душой, можно сказать, что их боги — сгустки жизни. А живое многогранно: жизнь хаотична, жестока и необузданна; она упорядоченна, прекрасна и разумна; то она женственна, то мужественна. И всё это во взаимной игре: игра в каждой грани, игра между гранями. Соответственно, есть множество богов и богинь. У каждого — свой, неизменный стиль игры. В каждом и в каждой из них воплощается один из аспектов бесконечно совершенной и многогранной жизни. Их божественный облик раскрывают нам созданные людьми мифы, культы, но в особенности — игры, культовые празднества, которые древние устраивали в честь этой когорты божественных игроков.
Нам, воспитанным совсем в иной религиозной традиции, всё это может показаться чуждым. Но давайте уясним себе: греческие боги являют собой бытие — а не власть, «не бесконечно могущественную силу, а бытие, которое тысячелико расцветает и проступает вокруг нас как живой образ сути нашего мира»[7], — как пишет в своей книге «Греческие боги» восхищенный знаток античных мифов Вальтер Ф. Отто. И далее, он же: «Первичное и высшее — это не власть, совершающая действие, а бытие, являющее себя в образе». Однако из учения, скрытого в мифах о великих богах, становится ясно, что они, играя, являют бытие, которое, с точки зрения греков, само и есть игра. И наоборот: если уж мы видим игру в самом бытии, тогда кем и быть богам, если не игроками?!
А раз так, не приходится удивляться, что от Олимпа греческих мифов остаётся впечатление, будто наблюдаешь за игрой в ясельной группе детсада, состоящей из таких мощных карапузов, как Дионис, Аполлон, Гермес или Геракл. Ведь во всех этих божествах утверждает себя та идея, которую К. Г. Юнг и К. Керени выразили в совместном эссе «Божественное дитя»: творческая сила Космоса, играя, являет себя в мире в образе ребёнка[8]. Красноречивое представление об этом даёт один из орфических фрагментов, где речь идёт о ребёнке Дионисе, играющем с пёстрыми игрушками мироздания: (орфические фрагменты № 34): «Всякого рода волчки, к движенью способные куклы, прекрасные яблоки также поющих сестёр Гесперид»[9].
Похожую историю рассказывают и о Зевсе: он, как мячом, жонглировал сферой мироздания, которую сделала его кормилица Эврисфея. Хуго Райнер в своей книге «Человек играющий» так комментирует подобные истории: «Во всех этих мифах, — пишет он, — дышит догадка, что происхождение мироздания из сферы божественного — это не результат с необходимостью развивающегося космического процесса, что оно родилось не по принуждению, а из чистой свободы, из радостного „не-нужно“ божественного гения, что оно вышло из рук „ребёнка“»[10]. Он справедливо указывает, что и образ младенца Иисуса, и барочные пути суть «наследники этого чувственного воплощения идеи божественной мировой игры, только мы уже этого не понимаем».
Однако мир, в котором мы обитаем, живёт далеко не по правилам детской игры, не создан по образу и подобию чуда. Это потому, что его пронизывает другой религиозный образ — Создателя. Он сотворил мир, который затем отпал от Него, а потому нуждается в спасении. Этот образ накладывает на историю человечества и на жизнь каждого человека неизгладимую печать серьёзности. Лёгкий дух игры древних греков, кельтов и других первобытных народов оказался потерян во мгле авраамических религий — иудаизма, христианства и ислама. Вернее, почти потерян: не будем забывать, что в Библии, в израильской Книге премудрости, сказано — пусть и один лишь раз — что когда Бог завершил творение, премудрость Божия (хома) танцевала пред очами Всевышнего (Книга Притчей Соломоновых 8, 27–31; в русском переводе — «радовалась»). К этому тексту охотно обращались первые учителя церкви, ещё близкие духу языческой философии, такие как Григорий Назианзин, мысливший мир как игру Божественного духа, или Максим Исповедник, видевший в человеке игрушку Бога