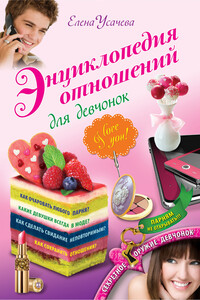Мозг как орган игрового со-творчества
Но самое интригующее — это то, что сотворил со способностью к креативному мышлению наш человеческий мозг. Ведь мы рождаемся с наилучшей к нему предрасположенностью: от природы мы не имеем никакой специализации, ни к чему особо не приспособлены, но всё понемногу умеем. К тому же мы появляемся на свет с совершенно недифференцированным, открытым для нового и способным к обучению, далеко не окончательно сформированным мозгом. Он позволяет нам устанавливать отношения практически со всем, что нас окружает. Таким образом, в нас природой заложены наилучшие предпосылки, чтобы стать креативными существами. Однако этот потенциал только в том случае получает шанс развернуться в полную силу, если в детстве мы не слишком рано попадаем под давление. Если после рождения мы как можно дольше располагаем возможностью, играя, разобраться в том, как сложен мир, в котором мы живём, и как велики наши возможности менять его по своему вкусу. Только таким образом мы способны понять, что нам требуется, чтобы найти своё место в мире, в который нам суждено было прийти.
Есть животные, которые появляются на свет с уже готовым, сформированным мозгом. Пауки сразу могут плести свои сложные сети, и не нужно, чтобы их кто-то этому учил. Им не нужно учиться плетению паутины, потому что с самого начала в их маленьком мозгу формируются высокоспецифические паттерны нервных клеток, необходимые для выполнения этого действия. Точно так же с самого начала умеют всё, что им нужно уметь, рыбы или крокодилы. Но уже у уровня птиц, а тем более у млекопитающих врождённые жёстко заложенные паттерны становятся всё более открытыми. Поведение, определяемое ими, становится менее запрограммированным. Детёнышам приходится сначала учиться. В этом им помогают старшие, подающие соответствующий пример и показывающие, как надо.
Однако решающую роль всё-таки играют их собственные попытки, обучение методом проб и ошибок и неустанные упражнения в том, что начинает получаться. Для этого детёнышам не нужны школы. Всему, что им понадобится в жизни, они учатся, играя. Необходимые паттерны нейронных соединений и переключений формируются автоматически во время игры. Котята играют с собственным хвостом, ловя его снова и снова. Медвежата борются друг с другом и лазают по деревьям. Маленькие обезьяны устраивают охоту друг на друга или дразнят старших. Но во всех этих случаях детёныши, играя, проверяют, что можно, а что нет, что получится, а что невыполнимо. Специалисты по биологии развития называют это «исследовательским поведением», и, по их единогласному мнению, оно сопровождается той же радостью и тем же восторгом, с каким маленькие первооткрыватели и творцы — человеческие дети — играя, исследуют устройство мира и выявляют всё богатство кроющихся в нём возможностей.
Радость открытия и созидания присуща всем детям от рождения. Эту радость они переживают ещё до появления на свет и приносят с собой в мир ощущение того, как это здорово, — самому что-то открывать и создавать. Ещё в период внутриутробного развития в мозгу формируются соответствующие нейронные сети, получившие от исследователей название «центров подкрепления» или «вознаграждения». Такие комплексы, расположенные в среднем мозге, активируются — и у взрослых тоже — в тех случаях, когда собственными усилиями удаётся привести мозг, находящийся в некогерентном, неупорядоченном состоянии, к когерентности. Такое некогерентное состояние возникает, как своего рода раздражение оттого, что воспринятое не может быть структурировано. Нейробиологи используют для обозначения такого состояния термин arousal. Интенсивная работа над появившимся феноменом иногда приводит к тому, что проблему удаётся решить. Тогда чувство раздражения сменяется радостью, иногда даже восторгом, а в мозгу всё хорошо укладывается. Его состояние становится более когерентным.
Это активизирует центры подкрепления в среднем мозге, и тогда на концах длинных и многократно ветвящихся отростков расположенных в них нервных клеток освобождаются особые вещества — нейромедиаторы. Они воздействуют подобно кокаину или героину и, в свою очередь, стимулируют определённые нейронные сети, вызывающие то самое приятное чувство, которое может иногда охватить всё наше тело, и которое мы называем «радостью» или даже «восторгом». В то же время эти особые нейромедиаторы, или сигнальные вещества (к которым относятся прежде всего катехоламины, эндогенные опиаты и другие пептиды), стимулируют появление новых связей между нейронами. Подобно удобрениям, они способствуют возникновению, росту, укреплению и стабилизации синапсов. Таким образом существующие нейронные сети расширяются и перестраиваются, и весь тот мозговой арсенал, который был задействован для решения определённой задачи или для того, чтобы добыть новое знание, получает материальную форму определённой нейронной сети, закрепляется в ней и сохраняется в мозге.