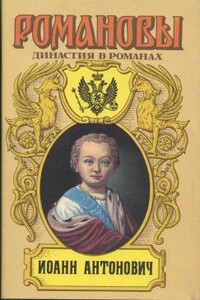— Вы не договорили, хотели еще что-то мне сказать? — спросил после ужина Перовский Аврору.
Она молча присела к клавикордам. В полуосвещенной зале раздались пленительные звуки ее сильного, грудного, бархатного контральто. Аврора пела любимый сердечный романс старого приятеля бабки, Нелединского-Мелецкого:
Свидетели тоски моей,
Леса, безмолвью посвященны…
— Дорогой Василий Алексеевич, — обратилась Ксения к Перовскому, спойте тот… ну, мой любимый.
Перовский расстегнул воротник мундира, подошел к клавикордам, оперся руками о спинку стула Авроры и под ее игру запел романс того же автора:
Прости мне дерзкое роптанье,
Владычица души моей…
Все были растроганы. Базиль от сердечного волненья, глядя на склонившиеся к нотам шею и плечи Авроры, блаженствуя, смолк. Тропинин отирал слезы.
— Ах, как ты, Вася, поешь, — проговорил он, — как поешь! Ну можно ли с такою душою защищать Наполеона?..
Аврора глазами делала знаки Илье Борисовичу. Ее носик весело сморщился, подняв над зубами смеющуюся губу. Илья этих знаков не видел.
Перовский и Тропинин уехали. Ксения осталась ночевать с сестрой. Проводив мужчин и простясь с бабкой, сестры ушли из залы в темную угловую молельню и молча сели там. Вдруг Аврора встала, возвратилась в залу и со словами: «Нет, не могу!» — опять села за клавикорды. Плавные звуки ее любимой шестнадцатой сонаты Бетховена огласили стихшие комнаты. Сыграв сонату, она задумалась.
— О чем ты думаешь? — спросила, обнимая сестру, Ксения. Аврора, не отвечая, стала опять играть.
— Ты о нем? — спросила Ксения. — Да, он уедет, и я предчувствую… более мы не увидимся.
— Но почему же, почему? — спросила Ксения, осыпая поцелуями плакавшую сестру. — Он вернется; от тебя зависит подать ему надежду.
Аврора не отвечала. «И зачем я узнала его, зачем полюбила? мыслила она, склоняясь к клавишам и, в слезах, продолжая играть. — Лучше бы не родиться не жить!»
Уйдя к себе наверх, Аврора отпустила горничную и стала раздеваться. Не зажигая свечи, она сняла с себя платье и шнуровку, накинула на плечи ночную кофту и присела на первый попавшийся стул. Месяц светил в окна бельведера. Аврора, распустив косу, то заплетала ее, то опять расплетала, глядя в пустое пространство, из которого точно смотрели на нее задумчиво-ласковые глаза Перовского.
— Ах, эти глаза, глаза! — прошептала Аврора. Красного дерева, с бронзой, мебель этой комнаты напомнила ей нечто далекое, дорогое. Эта мебель ее покойной матери напомнила ей улицу глухого городишки, дом ее отца и ее первые детские годы при жизни матери.
Мать Авроры, дочь Анны Аркадьевны, когда-то страстно влюбилась в красивого и доброго, небогатого пехотного офицера и, получив отказ княгини, бежала из ее дома и без ее согласия обвенчалась с любимым человеком. Это был Валерьян Андреевич Крамалин. Чувствительная и нежная сердцем беглянка дала своим дочерям романтические имена Авроры и Ксении. Аврора не помнила военной, скитальческой и полной всяких лишений жизни своих родителей. Зато она помнила, как ее и ее сестру любила мать, и живо представляла себе то время, когда ее отец, выйдя в отставку, служил по дворянским выборам. У него в уездном городе был над обрывом реки собственный небольшой деревянный домик с мезонином, огородом и чистеньким, уютным садиком, где Крамалины, по переезде в город, развели такие цветники, что ими любовались все соседи.
Авроре были памятны все уголки этого тенистого сада: полянка, где сестры играли в куклы; клумба цветущих сиреней и жимолости, где она впервые увидела и поймала необычайной красоты золотистую, с голубым отливом, бабочку; горка, с которой был вид на город и обширные окрестные поля, и старая береза, под которой Аврора с сестрой, уезжая впоследствии из этого дома, со слезами зарыли в ящичке лучших своих кукол. Девочки знали, что у них есть богатая и знатная бабка-княгиня, что эта бабка безвыездно живет где-то далеко, в чужих краях, и что она почему-то ими недовольна, так как редко пишет к их маме. Памятна была Авроре одна бесснежная, гнилая зима. В городке открылись повальные болезни. Авроре был десятый год.