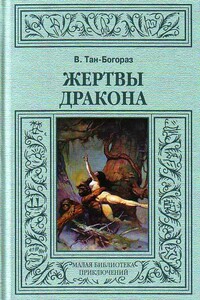высоко ноги закидывала,
Акулина позавидовала.
Отчаянный Пака!..
Свист, пляска, еще свист.
Ах, ты, Ванька, ты, Ванька Горюн,
ты почто, Ванька, не женишься,
ах, и что это за тяжкий грех,
подымается рубашка наверх…
Неукротимый Пака!…
Вспыхивает удаль недопесков.
— Спляшем!
Микша Берестяный вскакивает в круг и лихо ударяет мохнатою шапкою оземь. Его берестяные щеки алеют румянцем, нежным, как лист дикой розы. Губы его, как две ягоды дикой малины. Глаза выпуклые, влажные, как у юного тюленя лахтака. Картина, не парень. Он носится по кругу восьмерками и петлями, выбивая отчетливо дробь ладными подошвами своих нерпичьих сапог. Отчетливо плясать в мягкой обуви на зыбком моховище не особенно удобно.
— Викеша, иди!
Он манит товарища рукой, высовывая пальцы, как острые рога.
Викеша неожиданно сделал лосиную выходку, то есть прошелся по поляне, нагнув голову вперед и выкидывая ноги то влево, то вправо. Микша Берестяный последовал сзади. Они изображали охотника и лося. Так они сделали четыре проходки, две в одну сторону, две в другую.
Якуты, сидевшие группой в сторонке, пришли в неистовый восторг. Савка младший так стукнул кулаком по дедову бубну, что пробил его насквозь. Мишка Слепцов, все время сидевший молча, с суровым лицом, вырвал у него бубен, дернул, пробил головой и надел себе на шею, как новый воротник. Мишка с утра добыл себе бутылку настоящего спирту, выпил и ходил, как чумовой. Он был во хмелю молчалив, но тут его прорвало. С гиканьем, с криком, он пустился выплясывать вместе с русскими новую фигуру той же лосиной пляски. Он изображал самца соперника и шел прямо навстречу проворному Викеше, выставив бубен, как будто бы рога. Он тыкал его в грудь, отскакивал, заскакивал сзади, бесновался, храпел. Бубен разорвался и повис ему на плени, потом опустился до пояса и скатился на землю. Но они, увлеченные пляской, топтали его ногами. Так старинный юкагирский лосиный пляс превратился в начало антишаманской пропаганды.
Викеша запыхался и стал.
— Веня, Викеша, иди-ко, бабушка пришла!
Натаха ползет по земле, нагибаясь так низко, будто совсем на четвереньках. Две девушки, Фенька и Аленка, пытаются вести ее, но она нетерпеливо отбрыкивается и отталкивает их палкой.
Так постепенно она доползает до бочки, берется руками за пень, приподнимается и становится на ноги.
— Что это, свадьба? — спрашивает она хрипло.
У бабушки Натахи в голове опять спуталось. Ей чудится, что это свадьба ее собственной дочери Дуки, и кругом не Середний Колымск, а заимка Веселая.
— А, здравствуй, Куропашка, — говорит она старому Паке.
Митрофан Куропашка, весельчанин, уж тоже на том свете, как и бедная Дука. Правда, и у Паки, как у Куропашки, красные глазки и сутулая спина.
— Бабушка, выпей!
Пака зачерпнул и поднес наполненную ложку, но бабка оттолкнула ее рукой.
— Викентий! — подозвала она.
Викеша подошел и нагнулся с беспокойством. В глазах у старухи было что-то неживое.
— Бабушка, хочешь курить? — сделал он следующее очередное предложение.
— Ух, хочу, — прохрипела старуха, — давай!
Она взяла трубку, совсем приготовленную и даже зажженную, и жадно затянулась раз, другой. Потом приподнялась выше, упираясь рукою о пень.
— Викентий, а где Дука? — сказала она неожиданно громко. — Покличь ее, скажи, Викеша плачет в зыбке.
У Викеши явилось в уме: она принимает своего внука за зятя и ему же о нем говорит, что он плачет в зыбке.
— Дука, Дука! — кликала бабка Натаха. — Куда ты ушла, на, кого нас покинула? — То были слова печального призыва, как в минувшие черные годы. Бабка Натаха переживала поочереди сперва свадьбу дочери, а потом ее гибель.
Она встала во весь рост и стояла, опираясь на палку и придерживаясь рукой за пузатую винную бочку.
— Викентий Русак! — крикнула бабка Натаха. — Ты ее погубил, ты ее и выручи. Вот она летит, Викентий, слышишь? Летит, кричит… Ловите Ружейную Дуку! Дука, постой! Погоди!..
Бабка оторвала руку от бочки и шагнула вперед. Потом вынула из-за пояса свой старушечий нож и стала причитать: «Отрезаю молодца, чужого чуженина, Викентия, отрезаю от Дуки, от любви, от жалости, от сердца, от печени, от всего нашего рода, от всего нашего племени…»