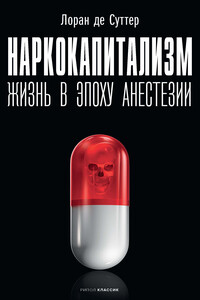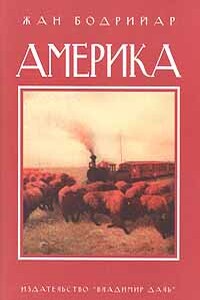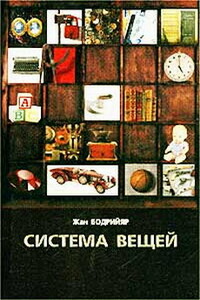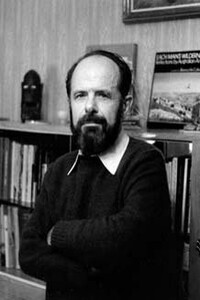Вот почему Уорхол не является частью истории искусств. Он является просто частью мира. Он не репрезентирует его, он является его фрагментом, фрагментом в чистом виде. Вот почему, если рассматривать его с точки зрения искусства, он может показаться обманчивым [decevant]. Но если рассматривать его как отражение нашего мира, он – совершенная очевидность. Как и сам мир: если рассматривать его с точки зрения смысла, он может показаться совершенно обманчивым. Но если рассматривать его с точки зрения кажимости и фрагментарности, он – совершенная очевидность. Вот что такое машина Уорхол – эта небывалая машина для фильтрации мира в его материальной очевидности.
Никто не может претендовать на его описание. Это означало бы в буквальном смысле слова соучастие, машинальное сочленение с Уорхолом. Но не у всех есть шанс стать машиной.
Объекты в этом зеркале[88]
«I'll be your mirror!» [Я стану твоим зеркалом!] – вот принцип субъекта. «We shall be your favorite disappearing act!» [Мы станем вашим предпочтительным актом исчезновения!] – вот лозунг объекта (в вольном переводе: мы станем главным [privilégié] местом действия вашего исчезновения!). Важно, чтобы это исчезновение было местом появления Другого. Потому что для него это единственный способ существовать. Все то, что происходит в режиме производства, всегда будет лишь образом нас самих. Лишь то, что происходит в режиме исчезновения – действительно Другое.
Сущности, объекты таковы, что само их исчезновение изменяет их. Именно в этом смысле они вводят нас в заблуждение и создают иллюзию. Но именно в этом смысле они верны самим себе, и мы должны быть верны им, в их тщательной детализации, в их точной фигурации, в чувственной иллюзии их кажимости и в их взаимосвязи. Ибо иллюзия не является противоположностью реальности, а является другой, более тонкой [subtile] реальностью, которая обволакивает первую знаком ее исчезновения.
Каждый сфотографированный объект – это лишь след, оставленный исчезновением всего остального. С высоты этого объекта, исключительно отсутствующего в остальном мире, открывается потрясающий вид на мир.
Отсутствие мира присутствует в каждой детали, усиливается каждой деталью – как отсутствие субъекта усиливается каждой чертой лица. Такая иллюминация деталей также может быть достигнута с помощью мыслительной гимнастики или тонкости чувств. Но здесь техника работает без напряжения. Это может быть ловушкой.
Фотография – это не изображение в реальном времени. Она сохраняет момент негатива, саспенс негатива, эту небольшую задержку, которая позволяет образу существовать еще прежде, чем мир и объект исчезнут в изображении, – что невозможно в случае с компьютерным изображением, из которого реальное уже исчезло. Фотография сохраняет момент исчезновения и, таким образом, шарм реального как прошлой жизни.
Беззвучие фотографии. Одно из самых драгоценных ее качеств, в отличие от кино, телевидения, рекламы, которым всегда нужно навязывать тишину, но всегда безуспешно. Безмолвие образа, который не требует (или не должен требовать!) комментария. Но также безмолвие объекта, который фотография вырывает из оглушительного контекста реального мира. Несмотря на окружающее его буйство [violence], прыть [vitesse], шум, фотография возвращает объект в неподвижность и тишину. Среди шума и гама она воссоздает эквивалент пустыни, исключительной неподвижности. Это единственный способ пересечь города в тишине, пересечь мир в тишине.
Фотография имеет навязчивый, нарциссический, экстатический характер. Она действует в одиночку [solitaire]. Фотографический образ является непоправимым, столь же непоправимым, как положение вещей здесь и сейчас. Всякая ретушь, всякая правка, как и постановочность [mise en scéne] имеют невыносимо эстетический характер. Одиночество предмета [sujet] фотографии в пространстве и во времени соотносится с одиночеством объекта и его характерного безмолвия. Удачно снимается то, что нашло свою характерную идентичность, то есть то, что уже не нуждается в желании другого.
Единственное глубокое желание – это не желание того, что мы желаем, и даже не желание того, что нас желает (это уже более тонкий случай), но желание того, что нас не желает, того, что вполне способно существовать без нас. То, что нас не желает – это и есть радикальная инаковость. Желание – это всегда желание этого иного совершенства, а вместе с тем желание его нарушения, возможно, аннулирования. В этом смысле нас вдохновляет лишь то, чье совершенство и безнаказанность мы хотим одновременно разделить и нарушить.