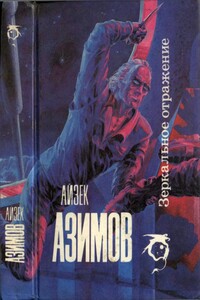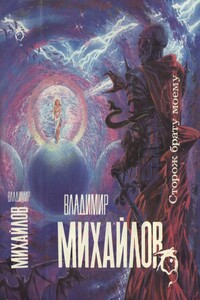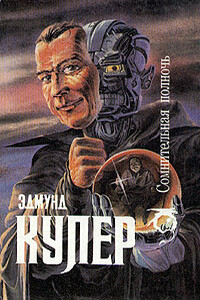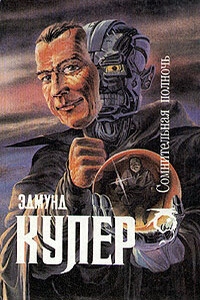Оставалось лишь найти удобную нору, заползти в нее и ждать, пока время и смерть сделают свое дело. Одно он решил твердо — избегать любых привязанностей. Его первый опыт должен остаться последним. Он страшился пережить такое еще раз — не упоение любви, а страх и ужас потери.
Он притерпелся к бесцельно проходящей жизни, обучал живописи детей, чьи представления о культуре определялись киноафишами и рекламой дезодорантов, чьи боги обитали в черных дисках, бесконечно и бессмысленно повторяющих их дикие вопли, вызывающие дурноту и нервное расстройство, чьи жизненные ценности выражались в платежных чеках, скоростных автомобилях, наркотическом кайфе и балдежных загородных поездках. Он притерпелся к тупому, безнадежному, однообразному существованию и заботился лишь о том, как убить время в свободные вечера.
Он не жил прошлым. Он не жил и настоящим и ничего не ждал от будущего. Время от времени он помышлял о самоубийстве, но ни разу не решился исполнить свое намерение.
И вот теперь, когда он стоял в одиночестве в Кенсингтон-Гарденс и поздний февральский вечер окутал его пеленой, полной ожидания, в нем вдруг шевельнулась надежда: может быть, эта бессмысленная жизнь длится уже достаточно долго, и, может быть, что-нибудь произойдет.
Но, к сожалению, он знал, что ничего не случится. Просто ему не хотелось возвращаться в свою мрачную двухкомнатную конуру, и он, как уже бывало, просто старался как-то оттянуть время. Через некоторое время он будет вполне здоров (во всяком случае физически), чтобы снова забыться в привычной бессмысленной работе.
И вот тут, когда Эвери, погруженный в свои мысли, повернулся и медленно побрел обратно по мокрой, пожухлой, примороженной траве, он вдруг увидел кристаллы.
Они лежали на траве — крошечные, белые, блестящие. Сначала Эвери подумал, что это льдинки или иней. Но льдинки и иней не сияют, словно кристаллы холодного пламени.
Внезапно он понял, что в жизни не видел ничего прекраснее. Он наклонился и тронул их пальцами. И вдруг в мгновение ока все исчезло. Все, кроме темноты и беспамятства. Так в какую-то долю секунды разрушился мир Ричарда Эвери.
Через некоторое время — может быть, прошли минуты, а может быть, и годы — сознание стало понемногу возвращаться к Эвери, и он понял, что спит. Неясные образы смутно мерцали, словно отражения на темной водной глади.
Он видел звезды. Он действительно видел звезды. Водовороты звезд — ярких, сверкающих, холодных — в пенистом великолепии гигантских туманностей. Его медленно влекло по темной реке пространства. Его влекло в бездонные глубины космоса; крохотные островки вселенных — невообразимые светящиеся пылевые шары — проносились мимо в ледяных стремнинах мирозданья.
Он ощущал страшный холод — холод не физический, а духовный. Его полудремлющий разум отвергал это внушающее ужас великолепие, жадно пытаясь понять, что происходит. Он двигался к какому-то солнцу; это солнце давало жизнь планетам. Он увидел одну из планет — с белыми и голубыми облаками, зелеными океанами, красными, бурыми, желтыми островами.
— Это дом, — прозвучал голос. — Это сад. Это мир, в котором ты будешь жить, взрослеть, учиться. Это мир, где ты узнаешь достаточно, но не слишком много. Это — жизнь. И все это — твое.
Голос звучал проникновенно и нежно, но Эвери испугался. Казалось, этот голос шел к нему сквозь непостижимые тоннели вечности. Этот нежный шелест оглушал, а слова, такие ласковые, звучали как приговор за неведомое преступление.
Эвери испугался. Страх, словно кислота, прожег его сумеречное сознание, и он проснулся. Мучительное пробуждение…
Эвери обнаружил, что лежит на кровати. В комнате с металлическими стенами. Без единого окна. Потолок светился. Приятное спокойное освещение.
Наверное, это больница. Он потерял сознание в Кенсингтон-Гарденс, и его отвезли в больницу. Но больница с металлическими стенами…
Он резко сел, в ушах у него зазвенело, а перед глазами поплыли крути. Эвери терпеливо ждал, пока это пройдет, и пытался собраться с мыслями.
Он поискал дверь.
Двери не было.
Он поискал кнопку звонка.
Звонка не было.