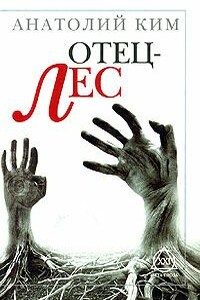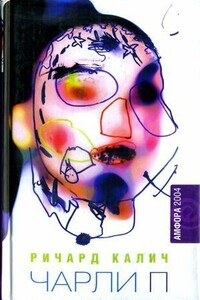Возвратившись однажды с макового поля, он сидел во дворе, на теплом камне у колодца, овевал свое обгоревшее лицо взмахами шляпы. Было душно и тихо до звона в ушах. Отто Мейснер подсчитал, что уже около двух недель гостит у купца. Пора было уезжать. В ворота влетела ласточка, мелькнула черным зигзагом над самой землей и взмыла вверх, на мгновение показав кроваво-красную бородку. Все было чужим здесь для Отто Мейснера. Вдруг он заметил недалеко от своих ног, в траве, клубок красных шерстяных ниток. Словно уронила его только что промелькнувшая ласточка: цвет ее пятнышка на горле и этих ниток был совершенно одинаков… Отто Мейснер нагнулся и протянул руку, чтобы поднять нитки, но вдруг клубок зашевелился и уехал в сторону. И тотчас же звонкий девичий смех, торопливый и переливчатый, прозвучал над ним. Философ выпрямился и увидел в раскрытом окне шевельнувшуюся занавеску, поверх которой светлел во мгле комнаты полуовал женского лица с прищуренными глазами и тонкими бровями, вздрагивающими от сдерживаемого смеха. Отто Мейснер узнал Ольгу, младшую дочь хозяина, улыбнулся ей приветливо и приложил шляпу к груди, найдя это наиболее достойным в создавшемся положении. Девушка исчезла, но зато в другом окне магистр увидел ее сестру, на желтом худом лице которой застыла насмешливая улыбка. Отто Мейснер слегка поклонился ей и ушел со двора в свою комнату.
В другой раз, когда он лежал у себя на походной кровати, отрешенно глядя в узорчатый потолок, вдруг мышиный шорох привлек его внимание, и, оглянувшись, Отто Мейснер увидел, как в круглую дырочку, проделанную в низу бумажной двери, просунулась соломинка и начала вращаться. Он тотчас же закрыл глаза и сделал вид, что задремал. С трудом сдерживая улыбку, он вспомнил, что в двери еще утром никакой дырочки не было. Вскоре мышиная возня стихла, и магистр, приоткрыв глаза, заметил лежавшую у порога желтую соломинку. Видимо, мыши надоело тщетно дразнить его и она, протолкнув соломинку внутрь комнаты, потихоньку убежала.
Ночью наш Отто Мейснер долго лежал без сна, затем уснул и увидел то, что будет, что было уже и что навсегда останется вне времени: соловьиный бой в майское тихое утро, когда по часам была еще ночь, но над деревней, над соломенными крышами и серыми купами тихих ветел уже высоко поднялась жемчужная корона рассвета. Муж и жена лежали, слившись юными телами, словно превращенные молниями отгремевшей страсти в единую бегущую струю, то прохладную, то горячую, то замолкающую устало, без движения и всплеска. Страсть в них дремала, но не сами они — муж с женою проснулись в одно и то же время от соловьиных трелей, грянувших за раскрытым окном, и теперь безмолвно внимали птичьей песне, чуткие и всезнающие в этот час — пророки сами себе, судьи сами себе и безукоснительные исполнители собственного же приговора над ними самими. Иногда соловей, оставив свои непостижимые периоды, вдруг принимался щелкать одной лишь звонкой кастаньетой, и эти отрывистые частые щелчки казались звуками торопливых поцелуев. Да, то небольшой счастливый певец, которому просто далась жизнь и песня, радостно целовал восходящее над прохладной тишиною земли огненное божество. Видя солнце со стороны, сам громогласный провозвестник утра в то же время находился внутри него, ибо свет, исходивший от восславляемого певцом божества, тоже ведь был телом солнца — как и воздух, который он пил торопливыми глотками, изливая в него же свою музыку. Те, кто любил, знают главную тайну любви: непомерным блаженством осуществления исчерпывается она, и вроде бы только смерть остается после для них двоих, любивших. Но незримый пока третий строитель любви наплывает из таинственной пустоты будущего, столь похожего на прошлое, и становится близко, наг и высок, соединяя своим существом небо с землею, тлен и цветение, свет с космической тьмой. И тому доказательство я, я — рыжеволосый внук Отто Мейснера, и он знает об этом. Осуществилось, с облегчением думает он, слушая соловьиную песнь. И он словно всегда знал об этом непременном осуществлении и потому мог так уверенно действовать во всех своих проявлениях доброты, щедрости и бескорыстия.