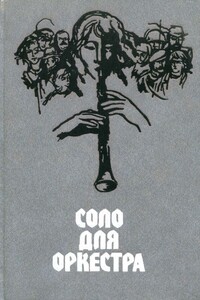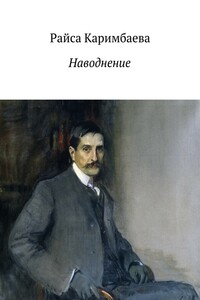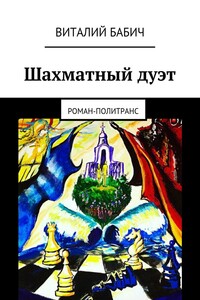II
Часам к десяти кудрявые барашки на небе сменились сплошным маревом. Хотя я уже десятилетия наблюдаю небо, от меня всегда ускользает момент, когда резкий и для в моего возраста даже неприятный зной начинает отступать, побежденный надвигающейся грозой.
Четко очерченные тучи неустанно меняют форму. В них бушует страшная внутренняя сила, тем более грозная, что взрыва так и не происходит.
Тучи разметал налетевший ветер, они мчатся за горизонт, и в конце концов от них остаются лишь раскиданные там и сям невинные клочки облаков.
Незнакомка пошевелилась на своем омываемом водой ложе и села. Ветер, не согретый солнцем, стал холодным. Незнакомка поднялась и уверенным шагом двинулась по верхнему скользкому краю плотины на другой берег. Она исчезла в зарослях вербняка, но я знал, что она вернется. Она любит солнечные дни, пожалуй, не меньше, чем я. Я знал, что надвинувшиеся было тучи не заставят ее уйти. Домой, если у нее есть дом. К мужчине, если у нее есть мужчина. Или к семье. Когда я хочу помучить себя (а делаю я это с наслаждением), то представляю себе, что мужчина у нее есть. Муж. Двухметровый, атлетического сложения, с могучей грудью и сильными ногами, лет пятидесяти. У него добродушное интеллигентное лицо сенбернара. Он любит ее надежной, слегка ироничной любовью. Иногда бывает грубоват, но, компенсируя это, носит ей конфеты.
Однако в глубине души я верю, что она одинока, и это меня утешает.
Я положил удочку в траву. Если здесь, у реки, Незнакомка, мне с уловом не везет, и это мне безразлично.
III
Либор
Либор родился на целых четырнадцать дней позже, чем предполагал доктор Медек. Впрочем, это была не единственная его профессиональная ошибка, но Медек своей репутации врача не придавал никакого значения. Гораздо большее значение он придавал своей репутации местного пошляка и раздувался от гордости, если удавалось вогнать в смущение дамочку, попавшую в его толстые лапы.
Мне его ошибка стоила четырнадцати бессонных ночей. Я боялся за Элишку, в то время как доктор Медек невозмутимо потягивал водку, в которую домашним способом превращал больничный спирт.
Элишка переносила беременность столь же стоически, сколь и семейную жизнь со мной. Она вдруг перестала выходить из дому, теннисную ракетку сменила на английскую литературу в оригинале, а потом, когда доктор Медек порекомендовал Элишке отправиться в родильный дом, спокойно вернула ее обратно на полки.
До того, как родился Либор, я никогда не видал новорожденных. Такими, каким впервые передо мной предстал Либор, я воображал себе новорожденных южноамериканских сапотеков[2]. Красную старческую рожицу, контрастирующую с белизной пеленок, я никак не мог связать с собой.
Я обескураженно передал ребенка обратно Элишке. Она, улыбаясь, с нежностью приняла его. Это было первое явное проявление чувств, которые я когда-либо у нее наблюдал.
Маленькая монахиня — сестра милосердия — пришла за Элишкой, ласково кивая головой в огромном белом чепце. Я сунул в ее крохотную ручку букет цветов, предназначенный для Элишки, и вежливо откланялся Элишкиным родителям.
Я уходил разочарованный. После первой, двухнедельной разлуки с Элишкой я радовался, предвкушая эту встречу. В отсутствие Элишки я почти уверовал в существование ее чувства ко мне, пусть даже по неизвестным причинам глубоко от меня сокрытого. Позабыл и об ощущении собственной неполноценности. Моя первоначальная влюбленность быстро сменилась страстью, становившейся с каждым днем все болезненней.
Эти две недели я был просто неспособен думать о чем-либо ином, кроме Элишки, а нашел ее обуреваемой нежностью к маленькому индейчику. Окажись она на Чукотке, и то не была бы более далекой от меня.
В ресторане отеля «Синяя звезда» в маленьком зальце меня ожидали коллеги. Обязательное, стандартно радостное торжество по случаю рождения продолжателя рода при таких обстоятельствах обернулось для меня отчаянной возможностью напиться. Как человек неопытный в пьянстве, я во время застолья пил все, что попадало под руку, и отведал — сверх того — безобразного пойла доктора Медека. Он постоянно носил его с собой в плоской карманной фляге.