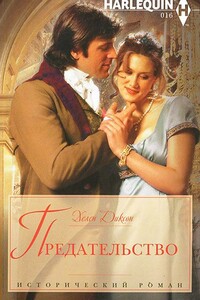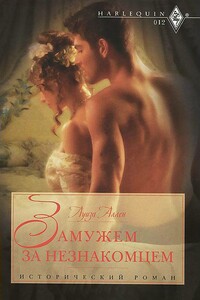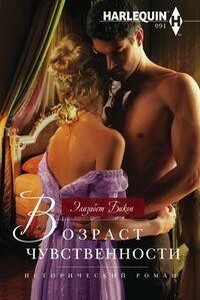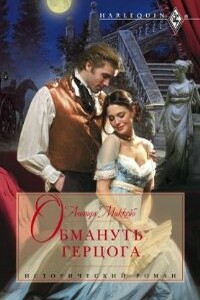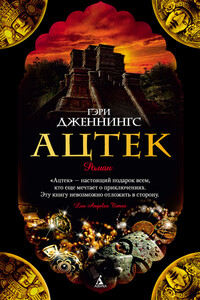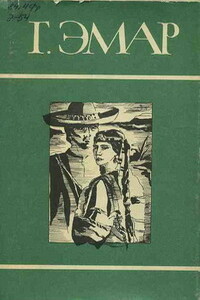— Все отремонтировано, убрано и украшено заново. Но никто, кажется, не позаботился приставить к вам новых слуг. Поэтому сегодня я останусь, на случай, если понадоблюсь вам… — Его голос дрогнул. — Ох, Марко, вы выглядите больным. Неужели случилось самое страшное?
— Увы, старина. Она мертва.
На глазах Али показались слезы, он прошептал:
— О всемогущий Аллах…
— Я знаю, нелегко говорить об этом. Мне очень жаль. Но Мар-Джана уже освободилась из плена и не чувствует боли. — Позволить ему, по крайней мере, сейчас считать, что она умерла легкой смертью. — Я расскажу тебе в другой раз, за что и почему убили твою жену. Разумеется, она ни в чем не была виновата. Это произошло только из-за того, что убийцы хотели ранить тебя и меня, но мы еще отомстим за Мар-Джану. Но сегодня, Али, не спрашивай меня ни о чем и не оставайся здесь. Тебе надо пойти и в одиночестве предаться скорби, а мне предстоит еще много чего сделать — следует хорошенько подготовить нашу месть.
Я повернулся и быстро ушел, потому что, если бы Али спросил меня о чем-нибудь, я не смог бы ему солгать. Однако меня охватила такая ярость и жажда крови, что я вместо того, чтобы пойти прямо в Павильон Эха, направился в покои министра Ахмеда.
Меня тут же остановили его караульные и слуги. Они протестовали и говорили, что wali провел очень тяжелый день, делая приготовления к возвращению великого хана и приему вдовствующей императрицы, что он сильно утомился и уже спит, и что они не смеют сообщить о посетителе. Но я зарычал на них: «Нечего сообщать обо мне! Пропустите!» — так яростно, что все мигом убрались у меня с дороги, испуганно бормоча: «Тогда это на вашей совести, мастер Поло». Я весьма невежливо хлопнул дверью и вошел без объявления в личные покои араба.
И тут же мне вспомнились слова Биянту о «необычных фантазиях» Ахмеда, нечто подобное когда-то говорил и художник мастер Чао. Когда я ворвался в спальню, то с удивлением заметил огромную женщину, которая выскочила в другую дверь. Я только успел мельком взглянуть на ее пышные одежды — просвечивающие, тонкие и развевающиеся, цвета сирени. Я заключил, что это та же самая высокая и крепкая женщина, которую я видел в этих покоях прежде. На этот раз привязанность Ахмеда, подумал я, похоже, оказалась стойкой. Но больше я об этом не думал, ибо увидел в центре комнаты араба, который возлежал на огромной, покрытой сиреневыми простынями кровати, опираясь на подушки сиреневого цвета. Он смотрел на меня спокойно, в его черных, похожих на щебень, глазах ничто не дрогнуло при виде бури, которая должно быть, бушевала на моем лице.
— Надеюсь, вам удобно? — произнес я сквозь стиснутые зубы — Я не займу у вас много времени, а потом вы сможете продолжить свои свинские наслаждения.
— Не очень-то вежливо говорить мусульманину о свиньях, ты, пожиратель свинины. И не забывай, что ты обращаешься к главному министру этого государства. Так что выбирай выражения.
— Я обращаюсь к ничтожному, низложенному и мертвому человеку.
— Вот уж нет, — возразил он с улыбкой, которую нельзя было назвать приятной. — Может, сейчас ты и ходишь в любимчиках у Хубилая, Фоло, — он даже приглашает тебя разделить с ним своих наложниц, я слышал, — но он никогда не позволит тебе низложить его правую руку.
Я обдумал это замечание и сказал:
— Знаете, я никогда не считал себя слишком важной персоной в Катае — и конечно, не считал себя соперником, представляющим угрозу для вас, — зря вы обо мне так думали. А теперь вы упомянули тех монгольских девственниц, которыми я насладился. Возмущены, что сами никогда не наслаждались ими? Или не могли? Именно это разъедает ваш разум?
— Haramzadè! Только послушайте его! Соперник? Угроза? Да кем ты себя возомнил! Мне стоит только коснуться этого гонга у кровати, и мои люди в тот же миг разрежут тебя на кусочки. А завтра утром мне всего лишь надо будет объяснить Хубилаю, что ты разговаривал со мной так, как ты это делаешь теперь. У него не будет ни малейшего возражения или замечания по этому поводу, и о твоем существовании забудут так же быстро, как и о твоей кончине.