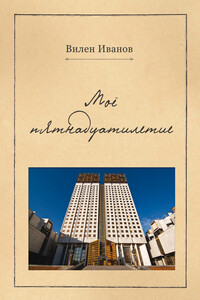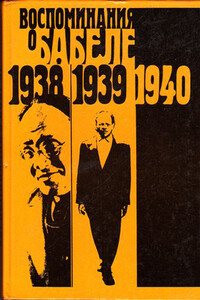Пишу же я тебе обо всем этом, милая Таня, только затем, чтобы ты приготовила родителей к этому известию и узнала бы через папа у медиков: что означает этот случай и не вредно ли это для будущего ребенка. Теперь мы одни, и она сидит у меня за галстуком, и я чувствую, как ее маленький острый носик врезывается мне в шею. Вчера она осталась одна. Я вошел в комнату, увидал, что Дора (собачка) затащила ее в угол, играет с ней и чуть не разбила ее. Я высек Дору и положил Соню в жилетный карман и унес в кабинет. Теперь, впрочем, я заказал, и нынче мне привезли из Тулы деревянную коробочку с застежкой, обитую снаружи сафьяном, а внутри малиновым бархатом с сделанным для нее местом, так что она ровно локтями, головой укладывается в него и не может уж разбиться. Сверху я еще прикрываю замшей.
Я писал это письмо, как вдруг случилось ужасное несчастье. Она стояла на столе, Н. П. толкнула, проходя, она упала и отбила ногу выше колена. Алексей говорит, что можно заклеить белилами с яичным белком. Не дают ли рецепта в Москве? Пришли пожалуйста».
Рукою С. А. Толстой: «21 марта 1863 г. Что ты, Танька, приуныла?.. — Совсем мне не пишешь, а я так люблю получать твои письма, и Лёвочке ответа ещё нет на его сумасбродное послание. Я в нем ровно ничего не поняла».
Соня по — своему подытожила их десятимесячную совместную жизнь, продемонстрировав, что она вовсе не «фарфоровая кукла», лишенная чувств. «Все свершилось, я родила, перестрадала, встала и снова вхожу в жизнь медленно, со страхом, с тревогой постоянной о ребенке, о муже в особенности. Что‑то во мне надломилось, что‑то есть, что, я чувствую, будет у меня постоянно болеть; кажется, это боязнь неисполнения долга в отношении к своей семье. Я ужасно стала робеть перед мужем, точно я в чем‑то очень виновата перед ним. Мне кажется, что я ему в тягость, что я для него глупа (старая моя песнь), что я даже пошла. Я стала неестественна, потому что боюсь пошлой любви матки к детищу и боюсь своей какой‑то неестественно сильной любви к мужу. Все это я стараюсь скрывать из ложного, глупого чувства стыда. Утешаюсь иногда, что, говорят, это достоинство — любить детей и мужа. Боюсь, что на этом остановлюсь — хочется немного хоть обрадоваться, я так плоха опять‑таки для мужа и ребенка. Что за сильное чувство матери, а как мне кажется не странно, а естественно, что я мать. Лёвочкин ребенок — оттого и люблю его. Нравственное состояние Лёвы меня мучает. Богатство мысли, чувство, и все пропадает. А как я чувствую его все совершенство, и Бог знает, что бы дала, чтобы он с этой стороны был счастлив».
Соня почти упала духом. Машинально она искала у мужа поддержки, подобно тому как ее ребенок искал материнскую грудь. «Боль гнет в три погибели. Лёва убийственный. Хозяйство вести не может, не на то, брат, создан. Немного он мечется. Ему мало всего, что есть; я знаю, что ему нужно; того я ему не дам. Ничто не мило. Как собака, я привыкла к его ласкам — он охладел. Все утешает, что такие дни находят. Но это очень часто». Она призывала себя к терпению.
Теперь муж стал для нее словно «фарфоровый». Между тем время все расставило по своим местам. Муж видел в своей жене не какой‑то мнимый, воображаемый образ, а вполне реальный, со всеми плюсами и минусами. Ему не нравилось, как Соня играет в «графиню», которой «девка» расчесывает «волосики». Ему нравилось все только Сонино, присущее исключительно ей: робкая улыбка, негромкий смех, полудетское целование пальцев его рук, проницательный взгляд и, главное, ее спокойная основательность, ее умение понимать. Возможно, в этом сказывалось и ее теперешнее соприкосновение с гением, превращавшее все вокруг в совсем необычную повседневность. Каждый месяц совместно прожитой с ним жизни можно было смело приравнять к году. Это обстоятельство, а также свойственная Соне взрослость позволяли ей предвосхитить нежелательные последствия многих поступков мужа. Так, однажды, накануне их ситцевой свадьбы, Толстой преподнес жене своеобразный «подарок», объявив о своем внезапном намерении идти на войну. Соня усмотрела в этом поступке желание покрасоваться, погарцевать, вспомнить молодечество. Ей казалось, что муж устал от семейной жизни и хочет «весело скакать на лошади, любоваться, как красива война, и слушать, как летают пули». Возможно, Соня в этот момент забыла его «Севастопольские рассказы», в которых автор поведал «не о правильном, красивом и блестящем строе с музыкой и барабанным боем, с развевающимися знаменами и гарцующими генералами», а о «настоящем ее выражении», которое «в крови, в страданиях, в смерти». Казалось бы, совсем недавно тесть урезонивал своего зятя, грозно требовав от Сони и Льва «с ума не сходить», иначе он сам объявится в Ясной Поляне и наведет там порядок. Андрей Евстафьевич требовал, чтобы оба прекратили дурить, успокоились и не делали из мухи слона. А своему зятю посоветовал не преобразовывать свою натуру в «мужичью». Он также просил его написать повесть о том, как муж мучил свою больную жену, не могущую кормить ребенка, и как бабы, прочитав все это, забросали бы его камнями. Тем не менее никакие уговоры не помогали, и Толстой вел себя в прежнем духе, намереваясь идти на войну. Это было больше похоже на странную взбалмошность не умудренного мужа, а кичливого юнца, капризно настаивавшего на своем. Соня категорически отказывалась верить в любовь мужа к Отечеству, так же как и в «enthousiasme» в 35 лет! «Нынче женился, — рассуждала она, — понравилось, родил детей, завтра захотелось на войну, и бросил. Надо теперь желать смерти ребенка, потому что я его не переживу». К счастью, война не началась, вместе с этим и улетучились плохие мысли и чувства Сони. Вскоре Лёвочка сделал очередное признание: «Я ею счастлив, но я собой не доволен страшно… Выбор давно сделан. Литература — искусство, педагогика и семья». Соне нравились подобные мысли мужа. Только она поменяла бы эти слова местами, поставив семью на первое место.