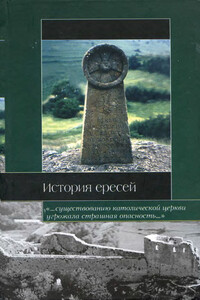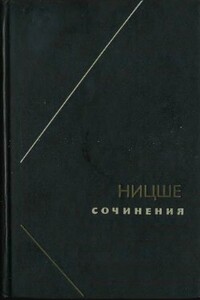Исторически данная государственность приемлется как факт несовершенный, но все же оправданный, тем более, что совершенство (особенно если измеряется оно абсолютным идеалом) на земле неосуществимо. Она оправдывается религиозно, и не случайно, что только религиозным началом создалась и держалась византийская государственность. Да и русское православие больше связано с идеей самодержавия, чем то принято думать. Оттого–то катастрофа монархии стала катастрофою и для него. Достойно внимания, что до сих пор в России все живые политические и общественные идеалы всегда становились и религиозными идеалами, хотя бы это и неясно сознавалось самими носителями. Крайности сходятся. — Идеал папской монархии, построенной по образцу человеческой, находит себе соответствие в религиозном идеале власти василевса над христианским миром и церковью. Внешне этот восточный идеал напоминает идеал (впрочем, заимствованный Западом у Востока, хотя и осложненный германскими традициями) западных императоров, боровшихся с папством на почве арианизируемого христианства. Но, при всем внешнем сходстве, первый по существу отличен от второго. Притязания василевса неопределеннее и шире: он не хочет быть только «епископом от внешних», он считает себя «и царем, и иереем», а волю свою каноном. Он — глава церкви; не даром Святейший Правительствующий Синод в свое время ссылался на византийского канониста Вальсамона. Идея православной монархии так и осталась в недоразвитом состоянии, потому что, конечно, нельзя считать решением проблемы так называемую теорию симфонии. Но для нас существенна и другая сторона дела. — Православное сознание сочетает признание абсолютной ценности во всяком проявлении жизни с признанием относительности и несовершенства всего человеческого. Поэтому идеал христианской монархии, при всем отношении к ней как к наилучшей форме земного общественного и государственного бытия, не только не формализируется, но, если он достаточно продуман, и не абсолютируется в необходимую форму, не признается даже в пределе своего развития полнотой совершенства. А в связи с этим стоит и возможность для Востока религиозно оправдывать революцию, что ясно не только в многострадальной истории Византии. — Один из русских в начале XIX в. чрезвычайно удачно охарактеризовал современный ему государственный строй России как «despotisme inodere par l'assassinat».
Итак, преимущество восточного христианства перед западным заключается в полноте и чистоте хранимого им предания — того, что выражено вселенским и соборным периодом церковной жизни. Оно само сознает это, сознает вплоть до чрезмерной гордыни и вражды к чужому, до сожалительного или презрительного отношения к латынству и люторству. Недостаточность же православия в том, что оно только хранит, не раскрывая и не развивая потенций хранимого, что оно не действенно, пассивно. Этою пассивностью в значительной мере объясняются рассмотренные нами уклоны религиозности и культуры Востока и, во всяком случае, тот факт, что для восточного сознания они, не получая догматического закрепления, не могут притязать на абсолютное значение. С другой стороны, в православном самосознании возникает и еще один характерный уклон, нссь смысл которого выяснится нам в дальнейшем. — Неумеренность в ценности своего, поскольку оно не оправдано вселенски, естественно сопровождается недоверием к чужому, католическому и протестантскому, отрицательным отношением ко всякому новшеству, которое ведь тоже не может притязать на вселенское значение. В связи с этим в себе самой православная культура усматривает в качестве положительного и ценного верность преданию, ею оправдывая и свою косность. Но верность преданию, возведенная в принцип, вызывает ревнивое до болезненности отношение ко всему переданному отцами, не только к смыслу, а и к букве, даже к внешнему облику. Она рождает староверие и старообрядчество, как столь же характерное для Востока явление, сколь для Запада характерна ересь. Восточно–христианская культура двоится в кажущихся ей самой недостаточно обоснованными исканиях и в попытках оправдать свою неподвижность.