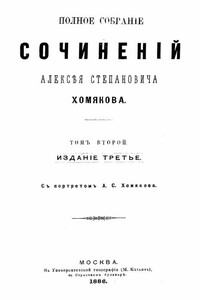Можно сказать утвердительно, что колыбель народа, им покинутая, или часть пути, им пройденного исподволь, никогда не представится в его памяти как земля чудовищ и страха. Это было бы противно поэтической логике человеческой души. Если переселение было вольное, первоначальная родина представляется землею людей и судеб обыкновенных; если переселение было следствием тяжкой необходимости, старая родина обращается в землю обетованную, в землю, любимую богами и светилами небесными.
Приложение этого простого правила к мифологии Индии и Персии дает результаты совершенно согласные со всеми другими выводами здравой критики. Для учеников Зердушта земля первоначальная святая, Арьянем–ваэджо (Aryanem‑vaejo): в ней начало блага и света, в ней поднимается до небес голова Аль–борджа, на котором живут лучезарные Изеды и вечно сияет солнце, эмблема Ормузда. Аль–бордж, на земле, которая поддерживается его корнями, есть изображение самого высшего неба, жилища перворожденного Ормузда (Агура–маздао) и всемогущих амшаспантов. В горах же Гиммалаи и Инду–кху, по словам Ктезия, передающего нам персидские сказки, живет Мартихора (человекоубийца), явный символ злых духов, и все враждебные человеку силы, и все чудовища, какие только могла придумать испуганная фантазия иранцев. Для поклонников Брахмы Гиммалаи и Инду–кху есть жилище вечных богов. Там и перворожденный вечности брахман (старая форма брахма напоминает Изеда Бахрам, а брахман Амшаспанта Бахмана [88]), и Индра, начальник духов небесных, и праотец Касьяна, и праведники Якшасы. Юг Индии наполнен силами, враждующими против богов. Там Бали, гордый градостроитель Баал (Кушит вавилонский) и Ракшасы с их начальником Гаваною, поработившим небесных богов и принудившим самого Сиву, все разрушающего (не Тифон ли?), быть покорным привратником в его волшебном дворце. За горами Инду–кху индейцы полагают варваров млечхов, яванов и прочих; но это только народы, чуждые им по вере, а не по человеческому характеру. В них нет ничего сверхъестественного и фантастического. Это, очевидно, жители земли известной и перешедшие уже из богатого мира басни в простой мир географии. Вся поэзия Индии служит доказательством этого факта, и достаточно прочесть поэму о смерти Кала–яваны, чтобы в нем убедиться. Вывод из всех наших данных очень ясен. Все слова, напоминающие первоначальную страну мидийского племени (Арьяна), находятся около западной горной твердыни. Таковы Арияна, Ейран (ныне Гилан), Ма–зенд–иран, Иран (осетинский) и проч.; тут же земля святого огня, Адербиджан (от атар, первоначальный огонь); тут же целый ряд гор, носящих имя Аль–бордж: от Эльбруса кавказского до Демавенда считается не менее пяти отдельных глав того же названия, и, кажется, оно принадлежало хребту Кавказа и его дагестанскому и мазендиранскому продолжениям. Рассказ Венди- дада о порядке сотворения земель иранских слишком поздно сложен, слишком запутан и нелеп, чтобы можно было основать на нем какое бы то ни было мнение; сверх того, он писан уже (даже предполагая, что это рассказ самого Зердушта) бакрийцем или согдианцем. За всем тем он еще более указывает на Запад, чем на Восток, за исключением слова согдо., вставленного местным самолюбием писателя (Эриене,Мург, Мутанский округ, Бакди, Баку, Низа, оконечности Мидийского хребта). Самый Аль- бордж в этом позднем сборнике уже потерял свое настоящее значение и обратился из горы определенной в идеал горы, на которой солнце восходит и садится. Упрямая память народов вернее полуученых рукописей. Она нам указывает на настоящий Аль–бордж в Эльбрусах дагестанских и кавказских, хотя уже давно забыт смысл имени (высокий святой) и давно изменились все наречия при- горных жителей. В то же время Ктезий ясно показывает нам, что восток и юго–восток Персидского царства был для персиян землею неизвестною и грозною. Движение с запада на восток явно; но еще яснее продолжается оно в мифах Индии, по которым, очевидно, первоначальное отечество владычествующих каст (брахманов и кшатрий) было в Пенджабе, а еще древнее в горах северных и северо–западных. Движение всего племени было не произвольное. Велик был натиск туранцев и жестока власть эвфратских семитов: грустно было иранцу бросать свою родину и искать убежища в странах неизвестных. От того‑то устрашенное воображение всегда представляло ему впереди борьбу с чудовищами и злыми духами, а память окружала колыбель, невольно покинутую, всем сиянием богоизбранного рая. Это совершенно согласно с сравнением учреждений Ирана и Индустана.