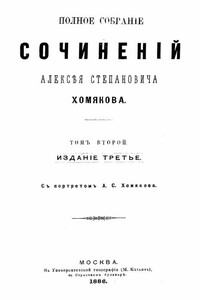Сочинения - страница 407
На второе ваше обвинение, касающееся снисходительности условий, предложенных Риму, мне кажется, отвечать нетрудно. Прежде всего, скажу вам, что я готов признать излишнюю уступчивость в Марке Ефесском[953]. Но ежели судить беспристрастно этого великого человека и замечательного богослова, то, кажется, придется более удивляться его несокрушимой твердости, чем порицать его за минуты человеческой слабости. Тяжела была его задача! Он чувствовал, он не мог не понимать, что, отвергая союз могучего Запада, он положительно произносил смертный приговор над своим отечеством. Для его благородной луши такое испытание было труднее мученичества, и однако — он остался непоколебим. Не должны ли мы после этого быть снисходительны в приговорах о невольных уступках, внушенных желанием спасти отечество? Не должны ли мы благословлять память этого достославного борца? Богословы позднейших времен соглашались вступить в общение с Западом под одним лишь непременным условием восстановления прежнего символа веры в древней его форме, да еще некоторых, не столь существенных изменений в церковном учении. Вы считаете эти условия слишком снисходительными; вы спрашиваете: «Согласился ли бы Афанасий соединиться с арианами на таких условиях; допустил ли бы он их во всем, за исключением символа веры, свободно излагать свое учение?» Без сомнения нет! Но между ересью Ария и лжеучением Рима — большая разница. Первая отвергает истинное учение, второе принимает его, но грешит прибавкою к священной истине своего частного и, конечно, ложного мнения[954]. Самое же это мнение по себе не составляет ереси, так как оно не заключает в себе прямого противоречия Священному Писанию и не было осуждено Церковью[955]. Ересь заключается собственно в клевете на Церковь и в выдаче частного, произвольного мнения за Предание Церкви. Выключите вставленное место из символа веры, и вы дадите удовлетворение Преданию; вы разграничите веру с мнением. Это, можно сказать, краеугольный камень римского учения; отнимите его, и все построение, с горделивыми притязаниями на непогрешимость, на право исключительного суда о христианских истинах — рушится в прах. Дух мятежа смирится и уляжется; словом, все необходимое будет сделано[956].
Ежели мы углубимся далее в вопрос, то увидим (и это замечание, вероятно, не было упущено нашими богословами), что мнение, прибавленное к преданому учению и выраженное словом Filioque, никакого другого основания не имело, как только постановления нескольких невежественных местных соборов и декретов, исшедших от римской кафедры; поэтому по исключении его из символа (то есть из Предания и из предметов веры) это мнение никак бы не могло устоять по себе и, без сомнения, было бы скоро оставлено и забыто, как многие другие частные и местные заблуждения, как например, ложное мнение, принимавшее Мельхиседека за явление (а не за образ) Христа[957]. Церковь, в своем недосягаемом величии, не взыскивает за ложные мнения частных лиц, когда в них нет прямого противоречия ее учению, тогда, и только тогда, мнения эти могут обращаться, и действительно обращаются, в ересь, когда они выдают себя за учение, Предание и веру Церкви[958]. Вот, мне кажется, достаточное оправдание условий, предложенных Риму, и доказательство, что снисходительность их нисколько не подает повода к сомнению в правде восточного православия и в его уверенности в том, что это учение, и одно это учение, истинно.